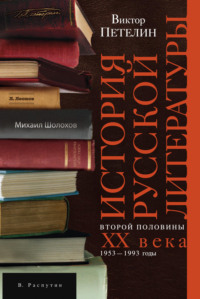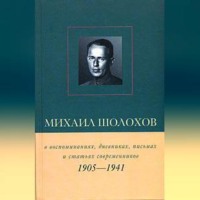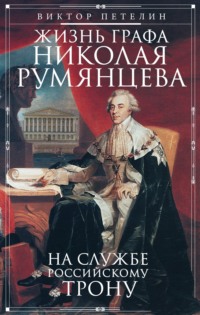Полная версия
Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг.
Этот художник жил на Дону. Он сын или племянник одного из братьев Корольковых. В «Тихом Доне» есть упоминание знаменитого на Дону Королевского конного завода… Исключительно удался художнику образ Григория. Аксинья гораздо хуже. Женщины ему далеко не все удавались, я считаю. Но примечательная особенность этих иллюстраций: если вы взглянете на рисунки, где изображен Григорий – в начале и в конце первой книги, вы увидите, как менялся облик человека, однако несомненно согласитесь с тем, что перед вами один и тот же человек. В третьей книге новая встреча Григория с Аксиньей на прежнем месте, у спуска к Дону, вы опять-таки с несомненностью узнаете их обоих, но видите людей, уже переживших очень многое… Надо добавить, что это художник-самоучка. В Новочеркасске он проявил себя и как незаурядный скульптор, целиком отделав в городе парадный зал…
И случилось же так, что в полном удовлетворении от того, как он был принят и признан (Шолохов считал, что эти иллюстрации самые лучшие, а его иллюстрировали и такие мастера, как Фаворский, Верейский, Ребров), чувствуя себя на вершине успеха, художник проиллюстрировал совершенно другое произведение… Этих иллюстраций я не видел, но могу представить себе, что получилось при его реализме, граничащем, как мне все-таки кажется, порою с натурализмом: иллюстрировал он на этот раз небезызвестное произведение, названное по имени и фамилии его героя: «Лука…» (фамилию опускаю). Сделал Корольков не только рисунки, но и много фотокопий, которые не то дарил, не то продавал, короче говоря – за это оказался в тюрьме. Выпустить-то его выпустили. Мне даже рассказывали, будто следователь попросил: ну, дескать, ты мне один-то комплект оставь, подари… А тот отвечает: «Ну да, ты меня потом опять посадишь». Короче говоря, его выпустили… Потом началась война. А женат он был на немке, приволжской. Шолохов меня к ним привел, и я видел эту чету. Жена была художнику как Рембрандту Саския: и любимая женщина, и постоянная натурщица, все вместе. Кончалась война, и немецкую армию погнали из Ростовской области. То ли кровь взыграла, то ли неустойчивое сознание этого самого Сергея Григорьевича Королькова, но они с женой ушли с отступавшими немцами. Ушли и закрыли тем самым дорогу дальнейшим публикациям иллюстраций. Шолохов незадолго до своей кончины сделал попытку обратиться, как у нас говорят, в инстанции: нельзя ли реабилитировать рисунки Королькова к «Тихому Дону»? Ответ был в ту пору отрицательный. Следы Королькова затерялись далеко, за океаном. Это досадно крайне. Надо ли напоминать, к примеру, рисунок в первой книге к первой встрече Григория с Аксиньей и рисунок для третьей книги, когда Григорий, много переживший, говорит, встретив ее на том же месте: «Здравствуй, Аксинья дорогая…» И она отзывается: «Не на этом ли месте любовь наша начиналась?»… Я в своих телевизионных опытах эту иллюстрацию всегда демонстрировал. Она поразительна.
Не хочу упустить ни одну из самых разных разностей, чтобы из них возникало целостное изображение. Поэтому прошу читателя простить мне повторы, перескоки от одного к другому ради какого-то малого штриха.
Программа «Пятое колесо» много усилий потратила на вещания в привычном для нее плане: все те же самые выпады насчет авторства «Тихого Дона», те же домыслы, та же неукротимая неприязнь. В Ленинграде (он еще не был переименован) вышла писательская газета с названием «Литератор». Опять и опять. Все то же самое, одно и то же… Как будто не было хлестких и точных реплик в публикациях Л.Е. Колодного, как будто не содержится ясных ответов по существу на нынешние инсинуации в письмах самого писателя, сохраненных Е.Г. Левицкой. Признаться, я был удивлен, когда увидел, что «Пятым колесом» анонсирована ретроспективная передача всех трех серий фильма «Тихий Дон». Передача состоялась. Последняя серия была показана в неудобные ночные часы…
Опять прошу у читателя прощения, но боюсь упустить один характерный штришок, который поможет показать, какими писатель сделал свои рукописи. Издательство командировало меня, чтобы получить очередные главы «Тихого Дона», одни из последних. Я провел у Михаила Александровича в Вешенской какое-то время, мы с ним все, что он приготовил, прочитали, чемодан мой постепенно наполнялся, но финальных, самых важных глав еще не было. И вот под конец я просто взмолился: «Михаил Александрович, вы же хорошо знаете, что, если вы не хотите, ни один человек не узнает от меня, что я читал эти главы, но я не могу от вас уехать, – вы понимаете, не могу уехать, – не узнав, чем же все это кончается». Что же он мне ответил! «Вот ты у меня пожил две недели, и я тебя ни разу не видел в нижнем белье. Почему же ты хочешь, чтобы я щеголял перед тобой в таком виде?» И так и не показал мне написанное, а я ему сказал, что видел у него на столе стопочку листов. Очевидно, это и были те главы. И действительно, вскоре он все закончил.
Он не позволял себе показывать свою работу в незаконченном виде. Но если потом вы могли ему доказать – что-то такое тут желательно как-то исправить, как-то усовершенствовать, он не сопротивлялся. Несмотря на то, что прежде думал об этом как о вполне законченном.
И совсем из другой оперы. Какой он был «заводной»! Любил и других заводить. Очень любил всякого рода розыгрыши. Иногда довольно жестокие. Как он со мной поступил… Но перед этим я должен объяснить: когда я с ним разговаривал, то обращался на «вы» и «Михаил Александрович», а он со мной – «Юрбор» и «ты». (Имя «Юрбор» он мне присвоил, да так, что оно ко мне прилипло, с тех пор многие стали так звать.) Всю жизнь так и было. И не было тут ни в какой степени ни малейшего оттенка чего-то вроде чинопочитания, самоуничижения перед вышестоящей персоной. Нет, просто я считал бы для себя неприличным обратиться к нему на «ты» и назвать его коротким именем. Мне было неприятно, когда другие говорили ему, похлопывая по плечу, «Миша», как было бы неприятно, если бы услышал, что о Пушкине кто-то говорит как о Саше, о Лермонтове – как о Мише, о Гоголе – как о Коле, о Шекспире – как о Вилли. Не те люди. Так о розыгрыше. Было это на охоте… Когда я бывал в Вешенской, всегда ездил с ним и Василием Михайловичем Кудашевым на охоту. Ездили на открытой, очень удобной для охоты в степи машине, похожей на «газик». Михаил Александрович был, кстати сказать, великолепным стрелком. Почти снайперская меткость у него была. Так вот он говорит: «Слушай, Юрбор, почему ты никогда не охотишься с нами, только ездишь, как болельщик у нас? Ты – что, не умеешь стрелять?» А меня в ту пору по молодости завести ничего не стоило, я спортсмен заядлый был и, конечно, стрелял из «монте-кристо», мелкокалиберки, стрелял неплохо. «Почему? – говорю. – Я много стрелял». – «Ну, поедем сегодня с нами. На тебе вот, – снимает со стены французское ружье, – это ружье хорошее. Но имей в виду: мы едем на вальдшнепов, а с ними даже опытный охотник может промазать. Вальдшнеп вот как – зигзагом! – взлетает, так что, если промажешь, не горюй!» Мне этого было достаточно, я уже трясся, пока не дождался… И вот, поднимает собака птицу, вальдшнеп взлетает, я стреляю, птица падает. Михаил Александрович с Кудашевым (они оба в охотничьих сапогах) идут туда, где собака птицу подобрала, и, возвращаясь, несут добычу за лапки. По их физиономиям вижу: готовится мне какой-то подвох. Приближаются, Михаил Александрович говорит: «Ну, как?» Отвечаю: «Убил». – «Убить-то убил. А кого ты убил?» Думаю: Боже мой, неужели ж я какую-нибудь домашнюю птицу пристрелил? Курицу какую-нибудь или что-нибудь еще?! Какой черт мог домашнюю живность сюда занести?.. Говорю робко уже: «Вальдшнепа». А мне в ответ: «Вальдшнепа-то вальдшнепа… – Василий молчит, а Михаил Александрович изображает даже некоторое сочувствие не то птице, не то мне, не то нам обоим. – А ты на глаза его посмотрел?» – «А что такое?» Протягивают они птицу мне поближе, и Михаил Александрович говорит: «Посмотри, у него же твои глаза». В тот день я стрелял еще очень много, но ни разу ни в одну птицу не попал. И с тех пор больше вообще не охотился… У меня отец был страстный охотник, я уже увлекся спортом, пошел по этой линии. Могло быть по-другому, не сломай меня сразу тогда Михаил Александрович..
И опять позволю себе внезапный поворот. О круге чтения. Михаила Александровича часто спрашивали: кого он считает своим учителем в литературе? Толстого? Ответ его был такой: не только. У всех понемногу учился – и у Гоголя, и у Чехова, и, конечно, у Толстого. Спрашивали и так: кого он считал своим учителем, а кого просто любил? Он очень высоко ценил Бунина4. Об этом можно судить уже по тому, что в «Тихом Доне» Бунин процитирован. Во второй книге романа один из персонажей вспоминает бунинские строки: «Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей ты смотришь золотистыми глазами…» Строки из стихотворения «Собака». Но это еще не все. Когда мы с ним у него дома подходили к книжным полкам, брали ту или иную книгу, он любил читать вслух. Он умел это делать, что-нибудь вспомнить из стихов и нравящееся прочитать вслух. Он умел это делать. Помню, как он смаковал опять-таки бунинское:
Я, простая девка на баштане,Он, рыбак, веселый человек…В стихотворении говорится об этом веселом рыбаке, который объездил много морей и рек, многое повидал его белый парус, и потом идут такие строки:
Говорят, гречанки на БосфореХороши… А я черна, худа.Утопает белый парус в море —Может, не вернется никогда!Буду ждать в погоду, в непогоду…Не дождусь – с баштана разочтусь,Выйду к морю, брошу перстень в водуИ косою черной удавлюсь.Надо было видеть его, когда он произносил эту последнюю строку! В его зеленых глазах искры какие-то пробегали в этот момент. И была у него приметная мимическая гримаска: нижняя губа поджималась к верхней, он как бы приглашал собеседника разделить с ним восхищение этой лихой отчаянностью девушки, грозящей задушиться собственной косой.
В то же время, с одной стороны, этот бешеный темперамент, а с другой – нечто иное: он даже говорил с людьми о том, какое впечатление на него производит мудрая, спокойная пришвинская проза с ее поразительным проникновением в природу и с ее прозрачностью, доброй ясностью мысли и восприятия. И то и другое было ему близко. А то вдруг заводил он разговор о Хемингуэе, и всегда было интересно говорить с ним об этом. Умел он и блистательно его спародировать. Ему доставляло удовольствие вспоминать книгу американского писателя прошлого столетия Мелвилла «Моби Дик»5 – о белом ките. У Хемингуэя6 ему ближе всего был, как мне кажется, «Старик и море». Но это уже ощущения. А вот что несомненно привлекало его внимание. Был у него сборничек стихов эмигрантского поэта, который из своего имени (полностью – Аминад Петрович Шполянский) выстроил себе странный псевдоним: Дон-Аминадо7. Теперь у нас издана его интересная проза, получил читатель его стихи. Так вот, одно из стихотворений опять-таки связано со вкусами Шолохова. Он очень ценил умение чувствовать запахи, а стихотворение Дон-Аминадо – о запахах разных городов мира. Оно говорит о том, как пахнет Лондон, как пахнет Гамбург, какие запахи у Чикаго, какие – у Парижа. Есть там горькие строки. Михаил Александрович это стихотворение так любил, что его дети, с которыми я дружил, читали наизусть заключительные строки и меня заразили…
…Но один есть в мире запах,И одна есть в мире нега:Это русский зимний полдень,Это русский запах снега.Лишь его не может вспомнитьСердце, помнящее много.И уже толпятся тениУ последнего порога.Вот такая степень тоски по родине, по России. Это всегда было ему очень близко, он очень это ценил.
Не напрашивается ли здесь ассоциация? Как не сказать о запахах родной Шолохову степи! Те запахи, которые обычно считают характерными для степного пейзажа, – запах полыни и выжженной солнцем травы – это далеко не все. Я, когда у него бывал, сам видел степь сплошь лиловую от фиалок. А в другом месяце степь опьяняла запахом тюльпанов. Я не ошибаюсь: наши тюльпаны не пахнут, а те, дикие, пахнут, и когда они цветут, степь пахнет одуряюще, она вся покрыта как бы цветным ковром. Существует местное название: «лазоревый цветок», вот это и есть дикий тюльпан. Почему «лазоревый», неизвестно, тюльпаны пестрые, разноцветные.
Если бы писатель не чувствовал так остро, не понимал запахи, он никогда не смог бы и о своей Аксинье написать, что она уловила: у ландыша запах грустный и томительный…
Однажды я, работая тогда в редакции «Правды», получаю от главного редактора поручение – поехать разыскать Шолохова там, где он сейчас находится, сообщить ему, что он стал лауреатом Нобелевской премии, и взять у него первое интервью для печати, для газеты. Сначала было не так легко: пришлось разыскивать Михаила Александровича в Казахстане. Помог мне в этом уральский писатель Николай Федорович Корсунов, с которым вместе мы обнаружили нобелевского лауреата на берегу озера Налтыркуль, где он со своей семьей предавался любимому увлечению – охоте… А значительно позже – вот уже огромный по времени перескок! – была поездка после Швеции в Японию. И та и другая поездки были связаны с этим присуждением Нобелевской премии. Волею судьбы я оказался с писателем в этих поездках как специальный корреспондент «Правды». А еще позже была поездка в Вешенскую с немецкими профессорами Эберхардом Брюнингом и Эрхардом Хексельшнайдером, где я даже выступал в качестве переводчика одного из поздравлений, с которым к писателю обратились немецкие ученые. Встреча была удивительная. Цель ее была в том, чтобы вручить Шолохову диплом почетного доктора Лейпцигского университета.
А гораздо раньше была другая примечательная поездка в Вешенскую. Там в то время находился известный московский фотограф (он даже не любил, когда его называли просто фотографом, он говорил: фотокорреспондент, видя в этом нечто более уважительное) Виктор Темин. Он сделал там много снимков. Один для меня особенно ценен: на балконе шолоховского дома стоим мы втроем – Шолохов в центре, а слева от него секретарь Вешенского райкома Петр Кузьмич Луговой. Тот самый Луговой, о котором впереди еще пойдет речь. Который был впоследствии арестован, сослан, и Шолохов его выручил, вытащил оттуда, как проделывал это с рядом других людей…
Что ж, чтобы жизнь присутствовала в моем рассказе с большей пестротой, расскажу еще несколько случаев, хотя бы два-три. Разговор Шолохова с графоманом, его земляком из Вешенской, который принес ему на просмотр свое произведение. Михаил Александрович прочитал и посоветовал не тратить время зря. Я присутствовал при этом разговоре. Посетитель вежливо попрощался с хозяином, дошел до ворот, у калитки обернулся, улыбнулся, сверкнув золотыми зубами, и сказал: «А все-таки вы не правы, Михаил Александрович. Моя жена – зубной врач, и она тоже кое-что понимает в литературе. Она мне говорила другое».
Это один посетитель. Другой был совершенно иного плана. Сидим мы на веранде за чаепитием. Мне поручили наливать в чашки кипяток из самовара, поэтому именовали «завкипом», заведующим кипятком. Подходит секретарь Михаила Александровича и говорит: его спрашивает какой-то старик. «Где старик?» – «А там, на кухне». – «Зови его сюда», – радушно приглашает Михаил Александрович. «Да не идет он». Ну, Михаил Александрович пошел на кухню, оставив нас на какое-то время, а когда вернулся, я в первый раз увидел Шолохова до такой степени смущенным. Он вернулся просто красный. Когда принялись расспрашивать, в чем дело, он никак не хотел говорить. Пристали к секретарю. Тот и рассказал: «Это, знаете, пришел старик с Украины, пешком пришел. И сюда никак не идет, говорит, что пришел «тильки побачыты», только увидеть. И вот, мол, теперь «побачыв» и собирается обратно. И никаких слов, кроме того, что он уже одно такое паломничество совершил: в Ясную Поляну».
Вот это и потрясло Михаила Александровича.
Об одном запомнившемся во всех своих деталях впечатлении. Спускались мы вниз по Дону на лодке с Михаилом Александровичем и с местным рыбаком, у которого было странное для нашего слуха имя: Чикиль. Чикиль – на донском наречии значит хромой. Он действительно был хромой, потому и получил такое прозвище. Там, на Дону, все ходят с прозвищами. Этот Чикиль вел нашу лодочку, он был на веслах. И вдруг я увидел… Мне показалось, что я или видел это раньше во сне, или когда-то был здесь… Такое ощущение меня не оставляло. Это был один из хуторов, которые вошли в представление о хуторе Татарском, где жили семьи Мелеховых и Астаховых. Все было настолько узнаваемо, что я спросил: «Михаил Александрович, а это Татарский?» Он не успел ответить, за него ответил Чикиль: «Что вы, Юрий Борисович! – там очень уважительно выговаривают отчество, не «Борисыч», а «Борисович», – вы же видите, тут у спуска к Дону, где мог Григорий с Аксиньей встретиться, тут же песок, а у Михаила Александровича не написано, что Григорий ехал по песку». Меня это поразило. Во-первых, простой рыбак спонтанно, немедленно может, по-видимому, сослаться на текст, взятый с любой страницы. А во-вторых, какая убежденность, неуступчивая вера в реализм изображения: уж если был песок на этом месте, так уж писатель об этом обязательно упомянет…
И еще случай хотел бы рассказать. Михаил Александрович любил меня поддразнивать. Вот он как-то и говорит: «Ты мне скажи – ты кто, редактор или ты лит?» Словом «лит» он обозначил: главлитчик, цензура. Я старался как-то не снижать веселых ноток в разговорах, но однажды задумал очень плачевно обернувшееся для меня предприятие. В Ростове издавался сборничек к 35-летию писателя. В этот сборник я, совершенно естественно, написал статью обычного, нормального плана, а кроме того, решил схулиганить, сделать юбиляру сюрприз: описал приезд в Вешки, чаепитие на веранде, даже встречу с тем стариком, который пришел побачыты, и дорогу ночную на машине из Миллерова в Вешки… А надо сказать, что мы ехали с Василием Михайловичем Кудашевым, ночью надо было выходить, поэтому попросили проводницу нас разбудить, чтобы мы не проехали Миллерово. А от Миллерова ехали уже на машине до Вешенской. Эта проводница была какая-то очень суровая, видимо – надоели ей пассажиры страшно. Но когда она услыхала, что мы едем до Миллерова, она вдруг спросила: «А вы не к Шолохову едете?» Мы сказали. И тут все внезапно изменилось. Нам немедленно принесли чай, проводница заговорила с нами так, будто мы едем к ее родным… И это я описал, и ночь на дороге. Когда машина едет по этой дороге ночью, впереди время от времени вспыхивают зеленые сияющие точки: это лисы перебегают дорогу, останавливаются и смотрят на машину в упор. А потом – удивительное зрелище: «Утренняя звезда» – это Венера там у них так называется – постепенно поднимается от горизонта и тянет за собой, как шлейф, полосу рассвета… Все это я, как сумел, описал, а поскольку дело дошло до старика украинца… Да! Я еще подписался псевдонимом: «Г. Лит.». Думал, Михаил Александрович сразу узнает и посмеется. Потом спросил его: «Вот вы в сборничке читали? Там какой-то Лит о вас написал». Он говорит: «Читал». Короткая пауза, а потом – я не решаюсь воспроизвести точное его выражение, заменю в нем одно слово: «Как, – говорит, – в ухо тебе заглянули». Только он не «ухо» сказал, а другое. Я не видел своего псевдонима, но после этого решил, что никогда о нем вот так, о черточках его характера, о случаях его жизни, об этом писать не буду. Только о творчестве! И дневниковых никаких записей делать не буду. Подальше от соблазна! Он подобные вещи не воспринимает. Потом я, разумеется, страшно жалел: многое, что могло быть записано, приходилось и приходится восстанавливать по памяти… А она, как известно, чем дальше, тем больше подводит.
В то же время он был человеком очень веселым, любил близких ему людей разыгрывать. Я уже написал здесь, как он меня разыграл на охоте. И подобное повторялось не раз. Он все время втравливал нас в игру в подкидного дурака по донскому правилу: это называлось «на пролаз», проигравший должен был проползти на четвереньках под столом, а его могли подпихивать со стороны, чтобы ускорить его продвижение.
Познакомился я в те дни с его матерью, Анастасией Даниловной, или, как ее там называли, Данильевной; с его тестем, Громославским, отцом Марии Петровны, бывшим атаманом одной из станиц, общительным человеком, который отсидел при царе за то, что был атаманом либеральным, а при Советской власти – за то, что вообще был атаманом…
Но я рассказываю такие веселые вещи, а начали мы совсем с другой ноты. Действительно, его смелость, его неумение приспосабливаться или нежелание приспосабливаться, все опасности, которые его окружали, то, что нависало вокруг него, над ним, все это присутствовало со всей несомненностью… Я и сейчас удивляюсь тому, что он меня не посвящал в эти обстоятельства до поры до времени.
Однако пора перейти к тому, что волей-неволей нас не оставляет. К той клевете, которая плелась и плетется вокруг него. Надо сказать, что эта клевета была даже тогда опровергнута. Процитирую письмо писателей в «Правду». Там было пять подписей, под этим письмом. Его и Фадеев подписал. Писатели в своем письме прямо говорили о злостной клевете, гневно опровергали ее и осуждали тех, кто ее распространяет, распускает грязные сплетни. Все это связано с авторством «Тихого Дона». Писатели требовали привлечь клеветников к суду (как это и делается теперь в подобных случаях в наше время). Многим стоило бы особое внимание обратить на весьма справедливое утверждение в этом письме. Цитирую: «Всякий, даже не искушенный в литературе читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для тех его ранних произведений и для «Тихого Дона» стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей». И они продолжают: «…писатели, работающие не один год с т. Шолоховым, знают весь его творческий путь, его работу в течение нескольких лет над «Тихим Доном»…»
Борис Ливанов1
Трубка Шолохова
Из воспоминаний жены Б. Ливанова
<…> Из Москвы Борис Николаевич писал:
«23 сент. 1941 г.
…Я каждый день репетирую «Кремлевские куранты». На днях показывался В.Г. Сахновскому в новой роли. С сегодняшнего дня перешли на сцену. Репетируем еще «Три сестры». Вводим Андровскую2 на роль Маши. Скоро пойду на фабрику грамзаписи, откуда будет передача концерта для фронта. Я играю опять «Яровую». Каждый день концерты. Иногда очень далеко за городом. Поздно возвращаюсь…
29 сентября 1941 г.
…На днях (9—10) должна быть премьера «Курантов». С завтрашнего дня пойдут репетиции на сцене. И меня ни за что не отпустят.
…Как хочется быть с вами, мои любимые, родные. Как все трудно! Хоть бы одним глазком посмотреть на вас, моих бедных, дорогих, родных!!! После премьеры предполагается выезд бригады на фронт. «Кремлевские куранты», «Яровая» и еще что-то. Должны ехать Хмелев, Грибов3, я и др. Но не знаю, пока еще это не точно…
29 октября
…Вчера у меня была генеральная репетиция «Курантов»… Спектакль, в общем, понравился. И особенно – исполнение Хмелева, Грибова и мое. Так что, кажется, все-таки… искусство… Сейчас будут снимать меня и других участников спектакля на пленку кинохроники. Надо сейчас уже скоро идти гримироваться и одевать свою особу. Не очень хорошо получается финал спектакля. Но, кажется, удалось своего добиться. Я тебе м. б. пришлю еще подробности дальнейшие…»
Потом театр отправили из Москвы в Саратов. Оттуда Борис Николаевич сообщал:
«Сегодня приехал Храпченко1. Остановился в номере напротив нашего. Вечером будет беседовать с нами. Предположено было начать 6-го работу театра в Саратове. Все, что я пока знаю. Советовался с Храпченко о вашем приезде. Он не советует. Находит, что вы живете в лучших условиях, чем можете жить здесь со мной. Он так же, как я, не виделся с семьей с начала войны. Что узнаю после беседы с ним, сообщу отдельно».
Наконец, семья наша соединилась – в Саратове. Директором театра в эвакуации был назначен Иван Михайлович Москвин5, поскольку Немирович-Данченко оказался на Кавказе. Все жили в одной гостинице. Распорядок жизни артистов очень строгий. После 12 часов ночи не разрешалось говорить по единственному телефону. Все эти правила были вывешены на стене за подписью Москвина-директора. Как-то ночью постучали к нам в дверь. Мужской голос требует Ливанова к телефону.
– Слушаю. Кто говорит? – шепотом спросил Ливанов.
– Борис? Это ты? Шолохов говорит… Что ты шепчешь?.. У вас что, войны нет? Я с фронта и утром лечу в Москву. Сейчас мы приедем к тебе…
В этой маленькой, старой гостинице была чугунная лестница. Через некоторое время мы услышали грохот, разносившийся эхом по всему зданию подобно шагам командора. В дверь постучали и вошли три человека. Михаил Александрович Шолохов был в военной форме, он тогда с усами пшеничного цвета и большим нависшим лбом был похож на художника Федотова… Вторым был Князев, прокурор Саратовской области, земляк Шолохова. И еще с ними был молодой человек, тоже военный. В Саратове строго соблюдалось затемнение, и мы зажгли фитиль, опущенный в масло на блюдце. Сначала Шолохов рассказывал о фронте. О молодых женщинах-санитарках, иногда очень маленьких и хрупких, которые добросовестно находили раненых на поле боя и тащили их на себе, не будучи даже уверенными, что раненые еще живы…