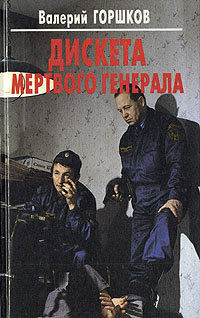Полная версия
Под чужим именем
Слава, в голове которого звонили колокола, а глаза застилал плотный кровавый туман, медленно приблизился, тяжело и шумно дыша. Ударил бритого ногой в горло, чувствуя, как легко ломается, с хрустом вдавливается внутрь кадык. Затем поднял глаза и долго смотрел на висящую на ночном небе полную луну, на поверхности которой, если хорошо приглядеться, можно было различить улыбающееся человеческое лицо.
Он стоял не шевелясь. Может, минуту, а может, и все пять. Очнувшись, утер мокрое и липкое лицо рукой, сжимающей оружие, сунул револьвер за брючный ремень, накрыл сверху рубашкой, чтобы не так бросался в глаза, развернулся и вышел из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь и не беря ключ. Знал – больше он сюда никогда не вернется…
Слава спустился по мрачной, без единой исправной лампочки, лестнице, вынырнул из подъезда, вышел со двора на улицу и пошел по пустынному Ленинграду, совершенно не задумываясь о том, куда его несут ноги. Только что он самолично убил двух скотов, нелюдей, тварей, которые под покровом ночи проникли в квартиру, чтобы забрать его жизнь. Пути назад отныне не существовало. Любое разбирательство с милицией будет стоить Славе свободы и, с учетом сложившихся обстоятельств, гарантированно обернется если не расстрельной стенкой, то долгими годами лагерей где-нибудь в Коми наверняка. Легавые мертвой хваткой вцепятся в такую удачную возможность окончательно втоптать в грязь его и без того исковерканную за последние полдня жизнь. И доказывать им, уже все для себя решившим, адекватность гражданской самозащиты совершенно бесполезно. А в случае с бритоголовым – еще и бессмысленно. Ведь с точки зрения буквы закона поломанный калека уже не представлял опасности и до приезда милиции никуда бы из квартиры не сбежал. Но Слава убил его. Хладнокровно. Спокойно. Потому что после всего, что произошло между ними двумя минувшим днем и той памятной ночью в арке не такого уж далекого отсюда проходняка, это было правильно. Подонок заслужил свою смерть, и он ее получил.
Куда на самом деле его несут ноги, Слава понял, только выйдя на Невский и увидев прямо по курсу Московский вокзал.
Сомов! Только он один на всем свете – товарищ по тренировкам и самый близкий друг – сейчас мог помочь Славе. Прежде всего советом и участием. Мог спокойно выслушать и с высоты своего жизненного опыта подсказать, как быть дальше и что делать в первую очередь. Только в старом бревенчатом доме у профессора, в деревне Метелица, всего в получасе езды от города, Корсак мог найти понимание и крышу над головой на ближайшее время. Там его искать не станут, потому что их дружба с Леонидом Ивановичем до сих пор оставалась тайной за семью печатями. Для всех, включая маму. Сейчас главное, успокоиться, все обдумать, переждать…
Слава взглянул на подсвеченные часы на башне вокзала. До первого утреннего поезда в сторону Метелицы оставалось еще почти три часа. Слишком долго. Да и вокзал закрыт. Может, пройти по Лиговскому, выйти на Московский проспект и поймать попутку? Деньги, хоть и немного – вот они, в кармане. На магарыч вполне хватит…
Оглядевшись по сторонам, Слава перешел проспект, свернул за угол – и практически лицом к лицу столкнулся с двумя милиционерами, постовыми, приглядывающими ночью за порядком на площади.
Один из них – высокий сержант – затянулся, отбросил окурок папиросы, внимательно посмотрел на опустившего лицо и ускорившего шаг парня и громко окликнул:
– А ну стой! Сто-й-йать, я сказал!!!
Слава остановился. Для полноты картины оставалось только поднять руки вверх.
– Кто такой? – грозно спросил сержант.
Второй постовой, по долгу службы готовый к любого рода неожиданностям, молча встал чуть позади и левее, привычно положив руку на висящую на портупее кабуру с пистолетом. Опытный.
– Имя, фамилия. Документы есть?
– Иванов Игорь. Нет у меня документов, – ответил Корсак. – Я девушку свою с танцев провожал, сейчас – домой.
– Где живешь? – продолжал буравить недоверчивым взглядом милиционер. Район Ленинграда, который начинался сразу за Московским вокзалом, во все времена слыл неспокойным в криминальном плане. И с местными обитателями – урками и хулиганами – немолодой уже, пообтесавшийся на службе сержант привык держать ухо востро.
– На углу Лиговского и Московского, – спокойно ответил Слава и назвал номер и квартиру. – Отпустите, а? Меня мать, наверное, ждет, волнуется. Спать не ложится.
– А ты, стало быть, по девкам бегаешь? Хорош кавалер, – бегло и как-то излишне «понимающе» переглянувшись с напарником, криво ухмыльнулся второй милиционер. И вдруг добавил, мгновенно окаменев лицом: – А чтоб было легче – босиком?
Слава не сразу понял, о чем идет речь. Затем опустил глаза.
Он был без обуви. Как лег на диван, как уснул, как дрался – так потом и вышел из дома. В легких хлопковых брюках, рубашке с коротким рукавом, в носках – и только. Целиком погруженный в свои мысли, пребывающий в шоке, он даже не заметил отсутствия на ногах сандалий, пройдя в таком виде по улицам города.
Приехали… Теперь точно не отстанут. А под рубашкой – «ствол». Чужой. С неизвестным прошлым.
– А ну, руки в гору!!! – подтверждая худшие опасения Славы, грубо рявкнул сержант, отступая на шаг назад, демонстративно отстегивая клапан пистолетной кобуры и доставая табельное оружие. – Обыщи-ка его! Глядишь – и перышко припрятанное найдется! Знаю я таких, бля, ночных провожатых…
Слава с горечью понял: медлить и разыгрывать спектакль дальше – смерти подобно. Еще секунда – и совладать с двумя вооруженными милиционерами будет уже невозможно. Его арестуют, изымут трофейный револьвер, отведут в участок, установят личность, а потом выяснится и про три трупа на квартире. Один – застреленный из найденного у него «ствола», второй – задушенный, третий – с переломанной шеей. Тогда точно кранты. «Вышка» гарантирована. Ну уж нет. Да и что терять пролетариату, кроме своих цепей?
Слава, не оборачиваясь, ребром ладони ударил по запястью первого сержанта и выбил пистолет из его руки. Дозированным ударом – чтоб не насмерть – врезал точно между ног второму. И мгновенно метнулся вперед по Лиговскому, к ближайшему проходному двору. Только бы успеть.
– Стой, су-у-ка!!! – шипя от боли в онемевшей руке, крикнул вдогонку постовой, кидаясь к отлетевшему в сторону оружию. – Стрелять буду!!!
Его товарищ просто хрипло скулил, лежа на тротуаре, прижимая обе руки к отбитым гениталиям и суча ногами.
Выстрел прозвучал в тот самый момент, когда Корсак поравнялся с первой аркой. Пуля просвистела рядом с ухом, обдав кожу горячим ветром, и с визгом влепилась в угол проходняка, отбив кусок кирпичной кладки. Это недвусмысленное напоминание о бренности всего сущего придало Славе дополнительные силы.
Слава не знал этот чужой двор, так что его шансы убежать во многом зависели не только от быстроты его бега, но и от топографии местности. А она, эта самая топография, как нарочно, оказалась препоганой – в дальней своей части некогда проходной двор был перегорожен высоченной трехметровой стеной, перелезть через которую не было никакой возможности. Слишком поздно заметив непреодолимое препятствие, Корсак понял, что оказался в ловушке. Бежать назад, к дверям выходящих во двор подъездов, а через них – на крышу он уже не успевал – в выходящей на Лиговский проспект арке мелькнул силуэт сторожко передвигающегося вдоль стены сержанта с пистолетом в вытянутой руке. Светало по-майски рано. Еще пара недель – и на Ленинград опустятся белые ночи. В общем, видимость была вполне достаточной для прицельной стрельбы с расстояния в два десятка шагов. Милиционер, похоже, хорошо знал район, а поэтому двигался уверенно, не суетился. Спокойно сокращал дистанцию, продолжая держать на мушке застывшего у стены, рядом с ржавым мусорным баком, босого беглеца.
Слава с невыносимой, щемящей тоской в сердце понял, что ему во второй раз за эти проклятые сутки придется сделать тяжелый выбор. Или он, или этот, если разобраться ни в чем не повинный, даже напротив, мужественно и бесстрашно выполняющий свой служебный долг сержант милиции. У которого дома наверняка есть семья. Жена. Дети. И – живая еще старушка-мама.
– Ну что, допрыгался, падла?! – хрипло выдавил постовой, останавливаясь и переводя тяжелое от нервного напряжения и бега дыхание. Ему, рослому, коренастому, разменявшему четвертый десяток и курящему крепкие папиросы, активные физические нагрузки давались гораздо труднее, чем молодому и поджарому Корсаку.
– Руки за голову, гнида! Лицом к стене! Считаю до трех, потом стреляю! Раз! Два! Ну, ру-у-ки!
Слава сделал вид, что подчиняется, даже поднял руки – и клубком, с перекатом бросился за мусорный бак. Сержант мгновенно нажал на спуск. Бахнул, отразившись гулким эхом от стен двора-колодца, ударил по ушам выстрел. Пуля угодила точно в бак. Корсак охнул от боли, зашипел, стискивая челюсти. Выхватил чудом не выпавший во время прыжка револьвер, попутно бросив взгляд на свои босые ноги.
Пуля не прошла, застряла где-то в мусоре. Но за баком обнаружилась разбитая каким то доброхотом водочная бутылка из зеленого стекла. Именно об ее осколки Слава и порезал ноги. Сильно порезал. Глубоко. Кровь выступила мгновенно. Как некстати. Куда теперь бежать, в таком-то виде?
Однако Ярослав не расслабился ни на йоту. Быстро поднял с земли какой-то бесформенный обломок и не глядя швырнул в направлении милиционера. Следом за ним полетел кусок кирпича. Не попал, конечно. Так это и неважно. Не для того бросал, а чтоб кураж сержантский сбить. Вроде как истерика у него, загнанного в угол хулигана.
– Вылезай, бля!!! – донеслось со двора с явной ухмылкой. – И чтоб не брык…
Закончить фразу сержант не успел – выстрел из револьвера заставил его прерваться на полуслове, споткнуться, выронить табельное оружие и, качнувшись взад-вперед, тяжело упасть лицом на грязный щербатый асфальт глухого двора. Прямо в лужу.
Славу колотила крупная дрожь. Зубы стучали, как проходящий по рельсовой стрелке товарный поезд. Он поднялся во весь рост, вышел из укрытия, на ватных ногах приблизился к лежащему посреди двора милиционеру, схватил за руку и перевернул его тяжелое тело на спину. Пуля угодила в грудь и, видимо, повредила легкое. Сержант был еще жив, но с губ на щеку уже стекала пузырящаяся кровавая пена.
Кто же тебя просил окрикивать, а?! Шел бы себе человек дальше к вокзалу и шел. Теперь уже ничего не вернуть. Занавес.
Где-то над головой хлопнуло, открываясь, окно. И тут же раздался истошный женский крик:
– Убили!!! Люди добрые-е-е-е! Борьку Макеева уби-и-и-и-и-ли-и-и!..
Ярослав икнул, затравленно огляделся и вдруг обнаружил в дальнем углу двора узкий лаз, ведущий в соседний двор. Метнулся туда, хромая и кусая губы при каждом шаге. Пролез, обдираясь в лохмотья. Снова побежал. Постепенно усилием воли заставил себя блокировать болевые рецепторы и сосредоточиться на конечной цели – любой ценой добраться до Метелицы. Поплутав, вскоре выскочил в какой то переулок. Кажется, тот назывался Кузнечный. Неспешно фланирующая по тротуару в столь ранний час парочка – усатый дородный мужик в костюме и галстуке и совсем еще юная девушка – при виде выскочившего им наперерез из подворотни страшного парня, со сведенными судорогой скулами, безумным горящим взглядом, в разодранной рубашке и носках, да еще держащего в руке револьвер, испуганно отшатнулась. Девушка закрыла рот ладошкой, зажмурилась – и заверещала так, что вопли наверняка были слышны за километр.
– Простите… – невпопад выдавил Слава и рванул в виднеющийся на другой стороне переулка следующий двор. Затем – в еще один.
Там ему вдруг неожиданно повезло – на скамейке, возле окруженной кустами сирени детской песочницы, спал, оглашая окрестности богатырским храпом и подложив под голову свернутый пиджак, бородатый мужик лет пятидесяти. Тут же валялась пустая бутылка и стояли аккуратно снятые перед сном стоптанные кирзовые ботинки.
Корсак невольно хмыкнул. Даже в состоянии опьянения прикорнувший под открытым небом лиловоносый потасканный мужичок был щепетильно аккуратен.
В заднем кармане всех Славиных брюк всегда лежал чистый носовой платок. Разорвать его на две части – и получится нечто вроде стелек. Натягивать чужие говнодавы, распространяющие густое терпкое амбре даже на расстоянии, на изрезанные осколками ноги небезопасно, заражение крови еще никто не отменял, а так – в самый раз. Лучшей возможности добыть обувку все равно не будет, а босиком далеко не уйдешь.
По весу и дубовости тяжелые рабочие ботинки алкаша больше всего напоминали кандалы каторжанина, но разгоряченный погоней Корсак не обращал внимания на такие мелочи. Стараясь держаться как можно незаметнее, он, где дворами, а где и открыто, по тротуару, добрался до Московского проспекта, намереваясь или дождаться на остановке первого пригородного автобуса, или пройти дальше и где-нибудь ближе к окраине Ленинграда поймать попутку и на ней доехать до знакомого перекрестка, расположенного в нескольких минутах ходьбы от деревни, где жил Леонид Иванович. Какой из двух вариантов выбрать, решать, однако, не пришлось. Судьба распорядилась по-своему.
Практически у перекрестка двух проспектов Слава увидел стоящий у тротуара зеленый грузовик-«полуторку», до верху груженный деревянными ящиками. У левого переднего колеса возился, смоля чинарик и расторопно меняя севший баллон на запаску, шофер – парень примерно его возраста, в рабочей спецодежде и лихо заломленной на затылок клетчатой кепке. Подойдя поближе, Слава взглянул на номер грузовика. Машина оказалась новгородской. То, что надо.
– Привет, земляк, – поздоровался с водителем Корсак. – Новгородский?
– Ну, – кивнул, покосившись на незнакомца, парень.
– Домой? – Ярослав кивнул на кузов.
– Ну, – выплюнул окурок шофер. – Че надо-то?
– Добрось до тринадцатого километра, будь другом, – попросил Корсак. – Деревня моя там. Я тут приехал к другу, ну запил… малость. Да, видать, поругались мы по пьянке. Когда очнулся – лежу во дворе, на лавке. Видок тот еще. Хорошо хоть деньги остались, – намекнул на магарыч Слава. – Я на вокзал соваться не стал, еще в милицию загребут. Так что… Выручи, брат. А?
– Ладно, погодь, – внимательно оглядев Корсака с головы до ног, нехотя буркнул новгородец. – Щас скат прикручу, и поедем.
– Давай помогу, – предложил Слава. – Закину пустое колесо в кузов.
– Ну, валяй, – чуть улыбнулся парень.
Так и договорились. Проблема транспорта решилась на редкость легко.
До нужного места доехали быстро. Водила – его звали Олесь – попался разговорчивый и, похоже, был рад что хоть какую-то короткую часть пути до Новгорода рядом будет попутчик. О себе Слава предпочел не распространяться, в основном слушал, время от времени задавая вопросы и вынуждая словоохотливого шофера продолжать монолог. Пусть себе болтает, если человеку так нравится…
Наконец дорога сделала крутой поворот, и впереди показался знакомый холмик. Приехали.
– Вот здесь, у кривой березки, останови. Спасибо, брат. – Протянув мятую купюру, Ярослав подождал, пока она исчезнет в кармане водительской спецовки, обменялся с задымившим всю кабину говоруном коротким рукопожатием, спрыгнул на асфальт, едва не вскрикнув от молнией полыхнувшей боли в ноге, захлопнул дверь «полуторки» и, заметно прихрамывая, заковылял по пыльной грунтовке. Сегодня – выходной, лекций в университете нет, значит, Сомов в деревне. Не любил профессор город, при первой же возможности уезжал на природу, в Метелицу. Хотя…
В поведении Ботаника тоже случались странности. Не часто, может, раз в месяц, а то и реже. Имея крепкое, богатырское здоровье – уж Слава знал это как никто другой! – Леонид Иванович вдруг звонил в университет, сказывался больным и – таинственным образом исчезал на два-четыре дня. Затем, как ни в чем не бывало, снова возвращался и приступал к чтению лекций. Однажды, в самом начале их знакомства, узнав, что Сомов заболел, Слава после занятий купил яблок и поехал к нему в деревню. Но нашел дом профессора пустым. Сэнсэй объявился в аудитории лишь спустя трое суток, и Ярослав не удержался, рассказал о своем визите к мнимому больному. На что нахмурившийся Сомов ответил:
– Ты прав. Я действительно не болел. Мне просто нужно было срочно отлучиться по личным делам… Давай условимся на будущее – без предварительной договоренности не приезжай. Без обид, ладно? Мало ли что да как…
С тех пор ловко прикидывающийся рассеянным неумехой Ботаник несколько раз повторял этот трюк с липовой простудой, исчезая на несколько дней, но Слава уже никогда не задавал сэнсэю вопросов. Мало ли какие у Сомова могут быть дела. Хотя, положа руку на сердце, Корсаку было по-человечески интересно. И он не отказался бы однажды услышать из уст сэнсэя об истинной причине его регулярных отлучек. Но тот молчал. Значит, так нужно…
До деревни Слава дошел, кусая губы и скрежеща зубами. Порезанные ступни полыхали огнем и, кажется, воспалились от попавшей в свежие раны грязи с чужих говнодавов. Не спасало даже самовнушение. Японские шпионы-невидимки, по словам Леонида Ивановича, владели этим трудным искусством до такой степени, что могли, даже лишившись в бою руки, долгие дни пути до дома заставлять себя не терять сознание и не обращать внимания на боль. Так что до величия духа самураев Славе Корсаку, целеустремленно идущему по пути воина, еще так же далеко, как пешком задом наперед– до Страны восходящего солнца. Но он не собирался останавливаться. Ни в прямом, ни в переносном смысле.
Покачнувшись и задев бедром вечно распахнутую, вросшую в землю калитку в покосившемся заборе и поднявшись по скрипучим ступенькам на крыльцо профессорского дома, Слава громко постучал в дверь. Силы окончательно покинули его. Колени подкосились. Беглец медленно опустился на черные от старости доски, прислонился спиной к бревенчатому срубу и закрыл глаза.
Хоть конец света трубите и покажите, где переждать – больше он не сделает ни шага!..
Дверь открылась не сразу. Ботаник, явно оторванный от завтрака, а потому активно работающий челюстями, едва увидев своего ученика – измученного, мокрого от пота, изодранного, пребывающего в полуобморочном состоянии, с провалившимися глазами, под которыми залегли черные круги, к тому же обутого в явно чужие кошмарные ботинки, – без лишних слов подхватил Славу, помог подняться и завел в дом. Не забыв при этом сторожко оглядеться. Пусто.
– Иваныч… – Ярослав открыл глаза, встретился взглядом с сэнсэем и принялся сбивчиво, то торопливо, глотая слова, то делая долгие паузы, рассказывать профессору историю своих злоключений, начиная с вызова к ректору, беседы с капитаном НКВД и известия об аресте мамы и заканчивая поездкой на грузовике. Сомов молчал, хмуря брови. Когда переступали через высокий порог между сенями и горницей, из-под рубашки споткнувшегося Корсака с глухим стуком выпал револьвер. Сомов поднял его, играя желваками, и спрятал себе под ремень. Осторожно усадил Славу на стул, сразу дал напиться холодной колодезной воды, после чего присел на корточки и помог избавиться от едко смердящих, покрытых пылью ботинок пьяницы.
Увидев покрытые коркой запекшейся крови, распухшие, изрезанные подошвы, нахмурился, осторожно стянул рваные носки, затолкал их в ботинки и вынес на двор. Бросил на периодически сжигаемую мусорную кучу за сараем. Принес из сеней какой-то веник – пук сушеной травы, снял с вбитого в стену гвоздя железный таз, тщательно вымыл руки в рукомойнике, плеснул в таз горячей воды из стоящего на печи чайника, бросил пучок сушеной травы, чуть разбавил холодной водой, чтобы не сильно жгло, и заставил продолжающего свой путаный рассказ Славу, скрипя зубами, опустить в таз ступни. Помогло. Когда рассказ был закончен, Корсаку стало чуть легче. Боль мало-помалу отступала. Но было совершенно очевидно, что несколко дней ему придется провести лежа в постели. О возможности заражения он предпочитал не думать. Ближайщие сутки все окончательно расставят по местам – или обойдется, или… или начнется горячка, а значит – дело дрянь и без врача не обойтись.
Впрочем, оно и без горячки уже дрянь. Дрянней некуда. Нет выхода. Тупик.
Только сейчас Слава вдруг со всей остротой осознал, как сильно он подставляет вынужденного помогать ему – тройному убийце – Леонида Ивановича. И мысленно выругал себя самыми последними словами за эгоизм. Но… куда еще он мог пойти, куда приткнуться в этом огромном мире? У кого просить совета – как жить дальше?!! Не считая мамы, Ботаник был для Славы единственным настоящим другом. Почти отцом. И Слава верил – сэнсэй поможет. Его гениальный разум найдет единственно возможный выход из тупика. И никогда не посоветует ему добровольно сдаться. Смерть в любом случае неизбежна. Так не лучше ли принять ее как можно позже, до последнего удара сердца оставаясь свободным? Ответ очевиден.
Выхода нет только из гроба. Пока ты жив и дышишь – он есть. А пресловутое «отсутствие выхода» – это не что иное, как выход, который сегодня нам не слишком нравится.
– Извини, что я приехал, Леонид Иваныч, – прошептал Ярослав, он почему-то стал говорить профессору «ты», но это обоих не смущало. – Но мне некуда больше податься. Совсем. – Он с надеждой посмотрел на хмурого, задумчивого сэнсэя. Он искал понимания и поддержки. И он их получил.
– Тебе не в чем себя винить. Ты все сделал правильно, – наконец заговорил Сомов. – Ты поступил так, как должен был поступить. Если бы на месте тех трех уродов… особенно меченого… оказались другие урки, их можно было бы оставить жить… И, ничем не рискуя, вызвать милицию. Но оказались те, что оказались. Меченый, ловко задвинув байку про жену и детей, едва не похоронил тебя в проходняке. Лысый вообще оказался настолько глуп и злопамятен, что рискнул поквитаться за проявленное к нему, гнусному ворюге, неслыханное снисхождение. Третий – тот, что открыл замок – получил случайную пулю от своего, и в этом тоже есть своя закономерность. Что же касется сержанта… когда ты оказался прижат к стене – у тебя просто не было иного выхода. Все, что тебе было нужно, – это свобода. И я уверен, если бы ты мог стрелять, как американский ковбой, ты бы наверняка ограничился тем, что прострелил бы ему руку с пистолетом. После чего спокойно бы скрылся. Ведь так?
Корсак кивнул.
– Но ты – не снайпер. Так что не в чем себя винить. Просто так сложились обстоятельства.
– И с мамой?!! Тоже обстоятельства?!! – не удержавшись, с жаром выпалил Слава. И тут же пожалел о сказанном. При чем тут Ботаник? Арест мамы и ее нелепое обвинение в воровстве по указу «семь-восемь» не является стечением обстоятельств. Это – умысел. Холодный. Расчетливый. Гнусный.
– Нет, – словно читая его мысли, качнул головой Леонид Иванович. Скулы его напряглись. – Это уже не обстоятельства, Слава. Это – молот преступной власти, дрожащей от страха перед своим собственным народом и потому уничтожающей всякого, на кого упадет тень подозрения. Кто кинул тень и достоверно ли обвинение против него – уже не важно. Первым делом – растоптать, на всякий случай. А уже потом разбираться, что к чему. Или не разбираться. Просто забыть. Людей у нас в стране много. А людоед – один…
Сомов на секунду замолчал, нервно дернул щекой, словно от зубной боли, и продолжил, сменив тему:
– Мне действительно жаль твою маму. Но, к сожалению, ты не в силах повлиять на ход событий. И никто не в силах. Значит, нужно смириться, собрать волю в кулак и жить дальше. Ты понял? Жить. Речь сейчас идет не о ней, а о тебе. Ты спрашиваешь меня, что тебе делать? Я отвечаю. Ситуация, в которой ты оказался, не оставляет тебе ни единого шанса вернуться в прежнюю жизнь. И самый лучший выход – это твоя смерть…
Корсаку вначале даже показалось, что он ослышался. Такого шокирующего и исчерпывающего «совета» от сэнсэя он никак не ожидал. И от неожиданности сразу не нашелся что ответить. А Сомов между тем продолжал:
– Ты должен осознать: отныне любое, даже самое случайное, поверхностное соприкосновение Ярослава Михайловича Корсака с властью с большой долей вероятности означает для него арест, суд и приговор к высшей мере. Но жить абсолютно вне общества, вне людей, вне каких бы то ни было внешних контактов в двадцатом веке могут разве что дикие африканские людоеды. А применительно к нашей стране – отшельники-богомольцы, обитающие в затерянных где-то в бескрайней Сибири староверческих скитах. Вывод? Или прямо сейчас трусливо поджать хвост, добровольно сдаться и получить «вышку». Или… бывший студент Слава Корсак должен исчезнуть. Испариться. Должен забыть всех людей, которых знал в предыдущей жизни. Друзей, близких, даже случайных знакомых, с которыми сто лет назад обмолвился словом на случайном полустанке. Всех!.. Ты должен умереть, для того чтобы воскреснуть под другим именем и, желательно, с несколько измененной внешностью. А также с безупречной, в мельчайших деталях отработанной и заученной легендой вместо прошлого и – хочешь ты этого или нет – с совершенно другим, чем у студента ЛГУ Славы Корсака, будущим.