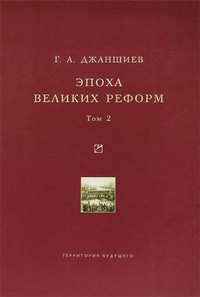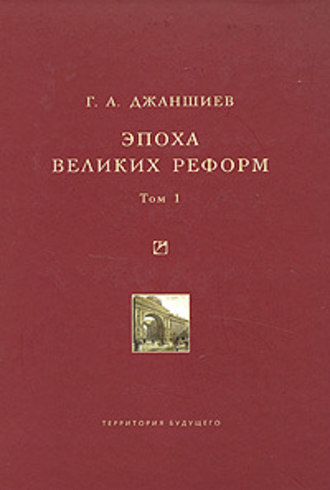
Полная версия
Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1
Он думал, что обычное представление о «читателе», этом незнакомце, близким знакомством, с которым хвалится всякий приобщенный к литературе, совершенно неправильно. Отчасти из собственного опыта, отчасти из опыта других, он выносил то впечатление, что «читатель» знает вовсе не так много, как предполагает «писатель» и что средний уровень умственного развития его гораздо ниже, чем принято думать. Джаншиев шутил, что литераторы льстят читателю для облегчения собственной задачи; они притворяются, что читатель все поймет, что бы они ни писали, потому что если бы они представляли себе читателя таким, каков он на самом деле, то им пришлось бы обрабатывать свои писания гораздо тщательнее.
И Джаншиев всегда писал для такого читателя. Он не стеснялся разжевывать ему простую мысль, ему не казалось неловким прерывать ход мыслей патетическими восклицаниями и яркими эпитетами, он заботливо расставлял скамеечки для легко утомляющейся мысли – стихи, беллетристические эпизоды, интересные рассказы. И читатель, расхватывавший ежегодно по целому изданию «Эпохи реформ», блистательно доказал, что Джаншиев не ошибался, думая, что для него нужно писать не совсем так, как обыкновенно пишет журнальная братия.
Победителей не сулят! Когда теперь пробегаешь «Эпоху», ее страницы кажутся написанными ad usum Delphini. Иного это и покоробит, но тень Джаншиева может быть спокойна: ни один человек, у которого есть хоть кое-какое чутье, не поставит ему в упрек ни приподнятого тона, ни старательного облегчения задачи читателя. Книга, несомненно, сделала свое дело. Нужно помнить, в какой момент она появилась в свет. Это было в 1891 г. Пора была поистине критическая. Ломка здания шестидесятых годов находилась в полном разгаре. Грозило рухнуть даже то, что пережило кладбищенски унылую эпоху восьмидесятых годов. Здоровые организмы стали обезображиваться: на них появились различные темные и болезненные наросты… Тогда-то Джаншиев заговорил о шестидесятых годах; тогда стали воскресать под его пером светлые образы деятелей этой эпохи: общество вновь услышало забытые слова, ему вновь в увлекательном изложении напомнили о забытых славных принципах; с книги повеяло живительным дыханием былого радостного возбуждения.
Именно такой язык, которым говорил Джаншиев, именно тот дух, которым насыщена его книга, были необходимы тогда обществу. О шестидесятых годах, конечно, знали, но нужен был поэт, чтобы славная эпоха ожила, нужно было заразительно бодрое настроение, чтобы помешать искусственно навеваемому сну сковать наше общество, чтобы не дать индифферентизму и отчаянию охватить его. «Эпоха реформ» сделала много в этом отношении.
Джаншиев не мог писать иначе, когда ему приходилось говорить о таких вещах. Его тон подсказывался ему его верою, его неизменным жизнерадостным и бодрым настроением. Он был глубоко убежден в том, что светлое настроение шестидесятых годов вернется, что те явления, с которыми в девяностых годах приходится сталкиваться на каждом шагу – преходящие явления, что эволюция русской общественной и политической жизни неуклонно идет к идеалам, одушевлявшим его и его друзей. Он не знал, что такое уныние, и деятельно боролся с пессимизмом друзей, которые находили, что могло бы быть и получше. «Эпоха реформ» не только отражает настроение Джаншиева, она сохранила и ту способность, за которую все так любили ее автора – способность не давать падать духом.
В наше время эта способность, пожалуй, еще драгоценнее, чем в девяностых годах. Теперь бодрящий голос еще нужнее, чем тогда, и вот почему, думается, можно бы смело поставить на книге старый эпиграф: «vertite manu diurna, vertite nocturna». За этот бодрый тон можно простить ей ее чисто научные недочеты.
«Эпоха реформ» – не труд историка в собственном смысле. Читатель напрасно стал бы искать в ней всестороннего освещения различных моментов движения шестидесятых годов. Очерк подготовки реформ – почти отсутствует, истолкования классового характера крестьянской реформы нет совершенно, экономические предпосылки ее не выяснены. Словом, опущены научные вопросы, правильное решение которых могло бы помочь социологическому истолкованию такого важного факта, как движение шестидесятых годов.
Но Джаншиев и не преследовал этой цели. Он вполне сознательно ограничил свою задачу прагматическим очерком, потому что писал не научный трактат, а памфлет. В последних изданиях книга стала несколько грузна для памфлета, но основной характер ее от этого не изменился.
Научная разработка истории шестидесятых годов шла и идет независимо от Джаншиева, но в «Эпохе реформ», думается, есть нечто, не уступающее по важности правильной постановке и правильному решению научной задачи. Она примыкает к довольно многочисленной в историографии семье книг, лучшим представителем которой является «История революции» Мишле. Так же, как и «Эпоха реформ», книга Мишле слаба в научном отношении, но ее картинность и энтузиазм, которым она проникнута, сыграли крупную общественную роль в истории Франции. Не сопоставляя талант обоих писателей, нельзя не признать, что «Эпоха реформ» близкая родственница «Истории революции». И я думаю, что почетный титул «первого историка эпохи великих реформ», который дан Джаншиеву таким компетентным судьею, как П. Н. Милюков, вполне им заслужен, несмотря на научные пробелы книги.
В «Эпохе великих реформ» Джаншиев делал не столько научное, сколько общественное дело, был прежде всего публицистом, как был публицистом во всех своих писаниях, не исключая путевых очерков. Он не мог иначе. Так уж у него была устроена голова, что он все, о чем думал и о чем говорил, прикидывал на общественную мерку. Потому-то его так и любят все, кто любит принципы света и свободы; потому-то его так и ненавидят все, чьим мелким и грязным делишкам мешают и свет, и свобода. Сколько доносов сыпалось на Джаншиева со страниц органов полицейского сыска, сколько ругательств и клеветы приходилось ему выслушивать со столбцов казенно-шовинистских изданий. Он был даже однажды вызван на дуэль: очень уж больно хлестнуло его меткое слово одного из «ученых» ремесленников[8].
Публицист Джаншиев может не жалеть о том, что он не был настоящим историком. Он сделал своим публицистическим пером столько, сколько редкий историк сделает своими учеными исследованиями. Восемь изданий «Эпохи реформ»– пьедестал достаточно высокий, а пьедестал Джаншиева составился не только из «Эпохи реформ».
Публицистика захватывала Джаншиева все больше и больше, но, постоянно сокращая свою адвокатскую практику, он продолжал горячо интересоваться вопросами организации суда, теми учреждениями, которые были созданы Судебными Уставами Александра II. Заведуя юридическим и судебным отделом в «Русских Ведомостях», он имел случай высказываться по множеству крупных и мелких вопросов[9].
Я не буду рассматривать их все и остановлюсь лишь на двух вопросах, которые для самого Джаншиева казались наиболее интересными. Им он посвятил по отдельной книжке. Я имею в виду «Ведение неправых дел» и «Суд над судом присяжных».
«Ведение неправых дел»– этюд по адвокатской этике. Эту книжку следовало бы раздавать бесплатно молодым адвокатам, при принесении ими первой присяги. Она снабдила бы принципами не одного из нынешних представителей сословия, считающих совесть и честь чем-то в высокой степени ненужным. В этой книжке Джаншиев ярко и горячо восстает против того принципа, что адвокат может браться за защиту по всяким делам, правым и неправым – безразлично. Для него кажется диким, каким образом сенат, своим известным разъяснением по делу Лохвицкого, как бы узаконил такое понимание. Для него адвокат, убежденный в том, что он защищает негодяя и тем не менее принимающий на себя защиту только потому, что тот не совершил ничего противозаконного и наказуемого, – такой адвокат представляется чем-то поистине чудовищным, каким-то уродом, которому имени нет. Как блестяще разбивает он аргументацию своих противников, которые апеллируют и к сыну Сирахову, и к идее абсолютной морали, чтобы доказать, что в защите неправых дел нет ничего предосудительного. И в этом вопросе Джаншиев мог торжествовать: на его стороне были лучшие наши публицисты и адвокаты, которые хотя об абсолютной нравственности не разговаривают, но отлично знают разницу между тем, что честно и бесчестно.
То же было и в вопросе о суде присяжных. Этот институт всегда был бельмом на глазу у наших обскурантов, потому что он выносил вопрос о преступлении и наказании из бюрократической канцелярии на суд общества, в светлые залы, где громко говорят и по совести решают, виновен человек или нет, где не руководствуются никакими «высшими» соображениями. В середине 90-х гг. гонители суда присяжных что-то особенно освирепели, и на учреждение посыпалось отовсюду столько клеветы и ругани, что можно было опасаться, как бы оно не зашаталось. К счастью, опасения оказались неосновательны. Секция комиссии по пересмотру судебного законодательства, работавшая под председательством А. Ф. Кони, всеми голосами против двух высказалась за сохранение суда присяжных. Один из оставшихся в этом меньшинстве, прокурор Петербургской судебной палаты г. Дейтрих, вздумал излагать свои соображения печатно. Ему-то и прочел отповедь Джаншиев, прихватив, кстати, столь же глубокомысленные размышления «Гражданина». Из полемических газетных статей выросла блестящая апология суда присяжных, которая надолго сохранит свое значение в литературе, наряду со статьями А. Ф. Кони, М. Ф. Громницкого, П. М. Обнинского и других наших лучших юристов.
До сих пор мы видели в Джаншиеве русского публициста; читатель, быть может, даже позабыл, что Джаншиев – армянин. И в этом не было бы ничего удивительного. В деятельности его до середины девяностых годов мало что напоминало о его происхождении. Разве только горячий южный темперамент и южная экспансивность указывали на то, что этот человек не дитя холодного севера. В молодости Джаншиев, подобно большинству русских армян, мало следил за событиями, совершавшимися в Оттоманской империи, и редко проявлял свое участие к положению своих турецких братьев. Другие интересы, другие запросы отодвинули на задний план более отдаленный и, по-видимому, более насущный армянский вопрос в Турции. Но он все-таки стал интересоваться им раньше, чем Сасунская резня привлекла к нему всеобщее внимание. В 1891 г. он посетил Константинополь и то, что он увидел в столице султана, показало ему с полнейшей очевидностью, что происходившие там вещи ужасны, что отсутствие активного интереса к положению армян в Турции граничит с моральным позором. В статьях, напечатанных сейчас же по возвращении в Россию в «Русской Мысли», он первый из русских армян попробовал разоблачить своеобразные приемы турецкой администрации и турецкого «правосудия». Для него, как для юриста, проникнутого высоким уважением к идее истинного правосудия и к ее этическим основам, было нестерпимо горько видеть постоянное, систематическое нарушение самых дорогих прав человека, совершающееся потому только, что этот человек не мусульманин, а христианин. Мартиролог жертв турецкого фанатизма был уже и в то время ужасающе велик, и страдания армян, отданных на произвол курдов, вопреки обязательствам Порты по § 61 Берлинского трактата, казались наглой насмешкой над Европою.
Джаншиев много думал над тем, каким образом может быть разрешен армянский вопрос. Я не знаю, приходило ли ему в голову то решение, которое Гладстон считал столь же простым, сколько и неисполнимым: изгнание турок из Армении, но что к другому решению, почти такому же простому, он приходил, это ясно из всего хода его рассуждений. Оно заключалось в возвращении к § 16 Сан-Стефанского договора, но он видел, что это, в конце концов, не решение. Поэтому то, что он предлагает – мера положительная, хотя носит вполне очевидный и вполне сознаваемый характер паллиатива. Джаншиев неоднократно подчеркивает, что армяне не просят, а требуют реформ, которые Порта, бог весть сколько раз обязалась ввести, и «ключ к разрешению армянского вопроса» он видит «в исполнении законных требований армян», вытекающих из § 61 Берлинского трактата. Дальнейшие события показали, что и это решение, которое казалось единственным, имеющим практическую ценность, было чистейшей утопией и, пожалуй, даже хуже, чем утопией.
Всего три – четыре года прошло с тех пор, как Джаншиев писал свою статью, и разыгрались в турецкой Армении такие события, от которых содрогнулись даже заправилы европейской дипломатии. Приведенное в ужас общественное мнение Европы потребовало от правительств, чтобы был положен конец этому позору культуры, чтобы были обузданы расходившиеся страсти диких сынов Ислама. В Англии заговорил великий старец, молчавший во время полного разгрома своей партии, и теперь нашедший в себе силы побороть болезнь и выступить на святое дело гуманности. Властное довольно! – сковало руки убийц, и Порта поняла, что теперь не время пускать в ход темные средства своей политики. Прекратилась резня… но целые области, цветущие еще накануне, дымились в развалинах; томились в гаремах армянские женщины и девушки, на обуглившихся остатках жилищ тлели 300 000 трупов и тут же справляли дикую тризну курды и регулярные войска.
Что было делать при этих условиях русскому армянину, единственным оружием которого было перо? Что мог он сделать? Немного! Джаншиев взялся задело с таким рвением, как будто хотел наверстать все, что мог сделать раньше и не сделал, с такой энергией, как будто предчувствовал, что ему суждено работать недолго. И то, что ему удалось осуществить в четыре года – было достаточно, чтобы другому наполнить жизнь. В газетах он печатал статьи, хватающие задушу, но газетных статей было мало; он это понимал. Нужно было осветить факт со всех сторон, выяснить размеры погрома, разоблачить истинных виновников и инициаторов политики истребления. Только при этих условиях можно было рассчитывать привлечь сочувствие общества к делу армян, уверить скептиков, убедить предубежденных. Он и сделал это. Изданная им книга «Положение армян в Турции до вмешательства держав» – это поистине «книга крови и слез», как назвал ее один из предубежденных, обращенный ею. В средние века она вызвала бы крестовый поход; в конце XIX в. она произвела переворот во взглядах русского общества, переворот, плоды которого Джаншиев пожал при издании «Братской Помощи».
Когда утихла в Армении кровавая гроза и стали измерять ее результаты, то оказалось, что немедленно необходима самая щедрая, самая обильная помощь: нужно было спасать тех, кто пережил погром и кто без помощи мог сделаться жертвою голода, нужно было беречь жизнь 150000 сирот, следовательно, нужны были деньги. И деньги широкой волною потекли из Европы, из Америки, из России. В России Джаншиев сделал больше, чем кто-нибудь другой. Убедившись, что помощь требуется систематическая, постоянная, не случайная, что суммы, доставляемой приютам, далеко не хватает на призрение сирот, он решил организовать правильную помощь из России.
Это простое решение было великим подвигом. Для него дело было осуществимо, конечно, в виде литературного издания, но наряду с чисто литературной работою, оно потребовало от него забот и хлопот, далеко выходящих из рамок писательской, редакторской и даже издательской деятельности. Он дважды начинал и оба раза доводил до конца свое предприятие исключительно один; помощников у него не было: он не хотел ни с кем делиться честью послужить своему народу и мягко, но категорически отклонял услуги, предлагавшиеся многочисленными друзьями. Каждый вечер его можно было застать в его кабинете, на его высоком стуле, за рукописями, за корректурами, за расстановкою клише, за письмами. Взявшись за дело, он не жалел ни своих слабых сил, ни скудного запаса своего здоровья: он писал, правил, подписывал к печати, ездил, отстаивал в цензуре каждую строку – и, наконец, выпустил в свет первое издание своей славной «Братской Помощи». Вот тут-то и начались настоящие хлопоты. Джаншиев превратился в ходока, в сборщика пожертвований, требовательного, почти неумолимого. Не смущаясь тем, что его упрекали в назойливости и надоедливости, он приставал ко всем, брал везде, где было можно; он сам сравнивал себя с турецкими мытарями, классическими представителями этой породы людей; достаточно было знакомому спросить у него, как идут дела сборника, чтобы тут же сделаться жертвою своей любознательности; он ловил собеседника на слове, и тот платился. Домосед, никогда не посещавший больших собраний, он вдруг сделался необыкновенно общительным, ездил всюду, где надеялся пополнить бюджет своих страдальцев, не останавливался перед утомлявшими его путешествиями в Петербург. И все это делалось так просто, он обирал знакомых и незнакомых так добродушно, что в конце концов никто на него не сердился серьезно. И нельзя было сердиться на этого человека, который, задыхаясь, взбирался на третий этаж, чтобы получить двадцатипятирублевую бумажку, систематически простуживался после каждого путешествия по Москве, пополнявшего его кассу лишней сотней рублей. Поэтому ему давали все. В бумагах редакции «Братской Помощи» сохранились письма его жертвователей. Кого-кого тут нет. И члены Императорского дома, и министры, и сановники, и ученые, и капиталисты, и люди, дававшие из последнего на благое дело. Первое издание «Братской Помощи» принесло около 30000 руб. Другой почил бы на лаврах. Не таков был Джаншиев. Когда не осталось ни одного экземпляра, он приступил ко второму изданию, в котором был расширен армянский отдел. Снова началась та же работа и так же успешно была доведена до конца. Опять в кассу «Братской Помощи» поступило около 30000 рублей. К весне 1900 г. разошлось и это издание. Уезжая в мае на юг, Джаншиев стал поговаривать уже о третьем издании и выражал надежду приступить к нему по возвращении в Москву. Но он вернулся в Москву, только чтобы умереть, и третье издание «Братской Помощи» так и не было осуществлено. А между тем оно обещало быть еще более интересным, чем оба первых. Джаншиев хотел сделать из него популярную армянскую энциклопедию, опустив статьи общего содержания и значительно расширив и приведя в систему армянский отдел. «Теперь уже материальные цели более или менее достигнуты: надо подумать о культурных», – говорил он, имея в виду, что новое издание даст русскому обществу знакомство с армянами, их историей, литературой и бытом. И он бы осуществил свои планы, если бы смерть не похитила его так неожиданно.
На собранные им таким путем деньги Джаншиев, при посредстве русского посольства в Константинополе и патриарха Орманиана, при жизни открыл 12 приютов в различных местностях Турецкой Армении. Его трудами и до сих пор еще живут в относительном довольстве, имеют кров и пищу сотни армянских сирот[10].
Резня 1894–1895 г. разрушила веру Джаншиева в спасительность § 61 Берлинского трактата и турецких реформ вообще, а то, что было введено европейской дипломатией в армянских провинциях Турции в 1895 г. под громким именем реформ, оказалось таким жалким фарсом, что самый верующий должен был сделаться скептиком. И Джаншиев стал искать другого решения армянского вопроса. Его подсказали ему статьи известного немецкого публициста и путешественника Рорбаха, который советовал германскому правительству во имя интересов немецкой торговли в Малой Азии поддерживать интеллигентное и опытное в коммерческих делах армянское население. Если немецкая торговля хочет стать твердо в центре Малой Азии, говорил Рорбах, то без армян она не сделает ни шагу, ибо много еще воды утечет в Ефрате, пока турок сделается купцом.
Джаншиев нашел, что эта точка зрения приложима и к русской торговле, стоит только вместо юга Турции подставить север. Свои рассуждения он напечатал в «СПб. Ведомостях» под псевдонимом Гр. Миров в той самой статье, в которой пропел отходную вдогонку армянофобу Величко, у которого только что за черезмерное усердие в травле армян было отнято редактирование «Кавказа».
В последнее время много спорили о том, что такое идеализм и что такое идеалист. Когда просматриваешь писания Джаншиева, то убеждаешься, что идеалистом можно быть, не разделяя мировоззрения Платона и Гегеля. Джаншиев, как уже было указано – позитивист, но все в нем сплошной горячий порыв к идеалу, который принимает смотря по обстоятельствам различные воплощения. Он преклоняется перед идеалом свободы; он падает ниц перед идеалом справедливости, он весь полон глубокой, перенесшей столько тяжелых ударов, но не сокрушенной верою в конечное торжество права и правового порядка; он мучается и страдает, видя как втоптана в грязь идея гуманности, созерцая ужасающие по своим размерам гекатомбы молоху фанатизма и дипломатических фетишей. Но во всем этом цельном и последовательном служении идеалу нет и тени утопизма. Он борется за настоятельные общественные задачи, решение которых давно назрело и осуществится тем скорее, чем дружнее и энергичнее будут усилия. И Джаншиев всю жизнь только и делал, что призывал к этим усилиям всех, кому дороги идеалы правды и свободы, ободрял унывающих, поощрял равнодушных, приветствовал энергичных.
Если когда-нибудь будет написана история воспитания русского общества, имя Джаншиева, конечно, будет фигурировать там на почетном месте. Он много поработал и заслужил эту честь.
А. Дживелегов
Автобиографические данные о Г. А. Джаншиеве
(сообщены С. А. Венгерову для его «критико-биографического словаря» в 1888 г.)
Григорий Аветович Джаншиев родился 17 мая 1851 г. в Тифлисе. Отец его, Аветик Глахич, был тифлисский мокалак (мещанин или, точнее, бюргер) и занимался торговлею персидскими товарами, которая давала ему средства, весьма скудные, для содержания своего многочисленного семейства и двух сирот племянниц. Благодаря своему недюжинному уму, честности и «образованию» (знал грузинский, армянский, персидский языки и счет) Аветик пользовался уважением своих сограждан. В семье он был строг, даже суров, но никогда не прибегал к телесному наказанию. Мать Кекела (Кикилия) происходила из старинного рода тифлисских мокалаков и отличалась красотою, замечательной добротою, щедростью и веселым нравом. Смерть ее, последовавшая в 1884 г. в Тифлисе, была оплакиваема горькими слезами всем Муэранским околодком, где она жила в доме, оставшемся после смерти мужа. О роде отца никаких точных сведений не сохранилось. Предание выводит его из Персии или Индии. Предание это не лишено вероятия ввиду существования в Индии провинции Джанши[11].
До 1864 г. Джаншиев жил в семье в Тифлисе. Учился он сначала в местной реформатской приходской, а потом в армянской приходской школе, а в 1861 г. поступил в приготовительный класс Тифлисской губернской гимназии. Ограниченные средства Аветика Джаншиева заставили хлопотать о принятии сына в Лазаревский институт восточных языков в число стипендиатов фамилии Лазаревых, облагодетельствовавших не одну сотню бедных армян дарованием средств к образованию.
В феврале 1864 г. отвезен был Джаншиев в Москву, где он с тех пор и оставался, не считая кратковременных поездок на Кавказ и за границу.
В 1866 г. Джаншиев за хорошие успехи перечислен был из Лазаревских воспитанников на Александровскую стипендию, учрежденную Московским армянским обществом в память избавления Александра II от покушения 4 апреля 1866 г. Окончил полный гимназический курс в 1870 г. 2-м учеником с серебряною медалью и с занесением на так называемую золотую доску (имел круглое «5», за исключением русского сочинения – «4»). Благодаря чрезмерному напряжению сил и неблагоприятным условиям школьной жизни, в институте Джаншиев расстроил себе здоровье и получил искривление позвоночного столба.
Вышеупомянутая Александровская стипендия дала возможность поступить в Московский университет. Институтское начальство (особенно инспектор Г. И. Кананов) сильно уговаривало его поступить на историко-филологический факультет. Но так как на классицизме 60-х гг. лежала явственная печать ретроградства и обскурантизма, то Джаншиев решительно отказался последовать совету начальства и поступил на медицинский факультет. Избрание медицинского факультета обусловливалось влиянием тогдашней журналистики (особенно «Дела») и беллетристики (романы Михайлова – «Жизнь Шупова» и др.). Среди учащейся молодежи того времени считалось за аксиому, что естественные науки одни достойны внимания серьезного и мыслящего человека, и медицинская карьера одна только прилична для «честного» человека, не эксплуататора.
На медицинском факультете Джаншиев пробыл три недели. После первого же знакомства с анатомическим театром Джаншиев почувствовал к «медицине» такое неодолимое отвращение, что должен был ее бросить. Но куда поступить? На филологический факультет нельзя было поступить по указанной выше причине. К математике он не имел влечения. Оставался юридический факультет. Туда, скрепя сердце, и поступил Джаншиев, браня себя внутренне за измену гуманно-либеральному знамени.
Московский юридический факультет 70-х гг. наполовину состоял из спившихся или выдохшихся инвалидов. Среди профессоров особенно выделялся В. И. Сергеевич, книга коего «Задача и методы государственных наук», впервые познакомив с позитивизмом, оставила на «невольном» юристе глубокий след и внушила уважение к юридическим наукам. Под руководством того же профессора, он ознакомился с Миллем и написал свой первый юридический этюд «О возникновении представительного правительства». На 3-м курсе Джаншиев заинтересовался философиею и психологиею и окончательно переменил свой неблагоприятный взгляд на юридический факультет. Свой философский этюд (о врожденных идеях по Лейбницу и Локку) он должен был поднести не официальному преподавателю психологии Юркевичу (завзятому метафизику), а Легонину, читавшему судебную медицину и в связи с нею небольшой курс судебной психологии. Джаншиев окончил курс вторым кандидатом в 1874 г. Единственная четверка была по предмету известного ненавистника «черных» (т. е. кавказцев вообще и армян в особенности) Н. И. Крылова. Впрочем, его армянофобия не помешала Джаншиеву впоследствии с ним сблизиться и даже подружиться.