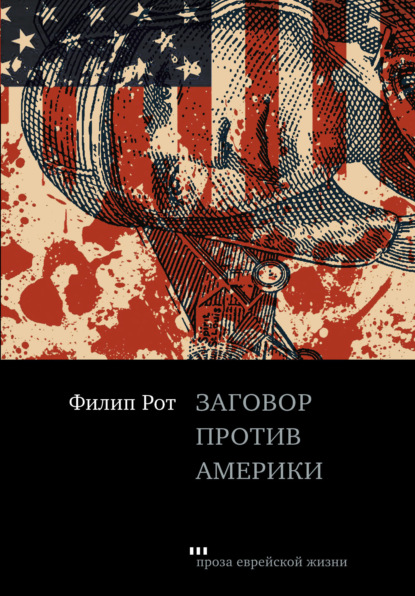Полная версия
Заговор против Америки
К 1940 году Лайонел Бенгельсдорф утверждал, будто является всеамериканским рекордсменом по службе на протяжении многих лет в одной-единственной синагоге. В газетах его называли духовным лидером ньюаркского еврейства и, откликаясь на его бесчисленные появления на публике, неизменно отмечали ораторский дар; ну и о десяти языках тоже не забывали. В 1915 году на праздновании 250-летия Ньюарка его усадили за один стол с мэром города и предоставили ему право обратиться к собравшимся – точь-в-точь так же, как он привык ежегодно обращаться к собравшимся на шествиях в День поминовения или на Четвертое июля: РАВВИН ПРИВЕТСТВУЕТ ДЕКЛАРАЦИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ – 5 июля каждого года «Стар-Леджер» выходила именно под такой «шапкой». Призывая в своих проповедях и лекциях к развитию американских идеалов как к первоочередной цели американского еврейства и к дальнейшей американизации американцев как к лучшему противоядию демократии против большевизма, радикализма и анархизма, он частенько цитировал последнее обращение к нации Теодора Рузвельта, в котором покойный президент, наряду с прочим, сказал: «У нас не может быть и речи о двойной лояльности. Каждый, кто утверждает, что он и американец, и еще кто-то, американцем не является. У нас есть место лишь для одного флага, и это государственный флаг США». Рабби Бенгельсдорф говорил о дальнейшей американизации американцев в каждой церкви Ньюарка и в каждой школе, говорил, обращаясь к каждой этнической, религиозной и историко-культурной группе населения, а разделы новостей в ньюаркских газетах, в которых помещались краткие отчеты о его выступлениях, пестрели названиями десятков городов по всей стране, в которых (и которые) рабби Бенгельсдорф призывал провести конференции и съезды по заданной им теме, равно как и по множеству других, им затронутых, – от природы преступления и необходимости проведения реформы исправительных учреждений – «Движение в пользу реформы исправительных учреждений проникнуто высокими моральными принципами и религиозными идеалами» – до причин мировой войны – «Война стала результатом столкновения всемирных амбиций европейских держав в их стремлении к военной мощи, власти и обогащению», – до значения детских садов и в особенности яслей – «Ясли и детские сады – это и впрямь сады жизни, засеянные человеческими ростками, в которых каждой малютке дают возможность вырасти в атмосфере счастья и радости», – до пороков индустриальной эры – «Мы убеждены в том, что достоинство трудящегося человека не может быть измерено суммарной стоимостью производимой им продукции», – до суфражистского движения, одно из главных требований которого – предоставить женщинам избирательные права, – вызывало у нашего славного рабби самые серьезные возражения, потому что: «Если уж мужчины не в состоянии разумно управлять государством, почему бы не помочь им в этом? Почему не избыть зло вместо того, чтобы удваивать его, позволяя голосовать и женщинам?» Мой дядя Монти, ненавидевший всех раввинов и питавший отдельную ни с чем не сравнимую злобу к Бенгельсдорфу (восходящую к годам отрочества и учения в еврейской школе при синагоге «Бней Моше»), частенько говорил о нем: «Этот важный индюк знает все на свете. Какая жалость, что он не знает ни хрена другого».
Появление Рабби Бенгельсдорфа в аэропорту, – где, согласно подписи под фотографией на первой полосе «Ньюарк ньюс», он встал первым в очередь пожать руку Линдбергу, едва тот покинет борт «Духа Сент-Луиса», – изрядно озадачило городских евреев (и моих родителей в том числе), удивило их и интервью, данное раввином газете в ходе краткосрочного визита Линдберга в Ньюарк. «Я пришел сюда, – заявил Бенгельсдорф репортеру “Ньюс”, – чтобы разрушить до основания стену сомнения в лояльности американских евреев Соединенным Штатам Америки. Я поддерживаю кандидатуру полковника Линдберга и готов оказывать этому кандидату всяческое содействие, потому что политические представления моего народа совпадают со взглядами полковника. Америка – наше возлюбленное отечество. Наша религия не связана ни с какой землей, кроме этой великой страны, быть гражданами которой мы гордимся и благоговейную верность интересам которой храним ныне и намереваемся сохранить во веки веков. Я хочу, чтобы Чарлз Линдберг стал моим президентом, не вопреки тому, что я еврей, но благодаря тому, что я еврей – американский еврей!»
Тремя днями позже Бенгельсдорф принял участие в большом митинге на Мэдисон-сквер-гарден, приуроченном к завершению авиатурне Линдберга. До выборов оставались еще две недели, и, хотя вспышки популярности кандидата от республиканцев отмечались кое-где на традиционно демократическом Юге и жестокая борьба на равных ожидалась в наиболее консервативных штатах Среднего Запада, общенациональные опросы показывали уверенное лидерство Рузвельта – как по общему числу избирателей, так и с оглядкой на расклад голосов выборщиков по штатам, причем во втором случае отрыв лидера от преследователя был еще существеннее, чем в первом. Поговаривали о том, что вожди республиканцев пребывают в отчаянии из-за ослиного упрямства своего кандидата, который, ведя кампанию, не прислушивается ни к чьим советам, – и сам митинг на Мэдисон-сквер-гарден был назначен на второй понедельник октября и транслировался по всей стране главным образом затем, чтобы вытащить летчика из грозовых для него и для партии туч политической самодеятельности и окунуть в куда более благотворную атмосферу в духе памятного филадельфийского съезда.
Пятнадцать ораторов, выступивших в поддержку Линдберга в тот вечер, были представлены публике как выдающиеся каждый в своей области деятельности американцы. Среди них был знатный фермер, рассуждающий о страшном уроне, который война неизбежно нанесет сельскому хозяйству США, и без того разоренному годами первой мировой войны и Великой депрессии; профсоюзный лидер, глаголящий о катастрофе, какою война неминуемо обернется для американских рабочих, не только трудовая деятельность, но и жизнь которых будет протекать по предписаниям правительства и законам военного времени; фабрикант, запугивающий полным коллапсом американской промышленности в длительной перспективе, обусловленным работой на износ в удовлетворение нужд воюющей армии и дополнительными налогами на войну; протестантский священник, вздыхающий о неизбежной порче нравов – особенно среди мобилизованной на войну молодежи – под воздействием современных методов ведения войны; католический священник, опасающийся того же, но с особым упором на духовную жизнь нашего миролюбивого народа, на угрозу нашей природной доброте и порядочности со стороны разбуженной войной ненависти. Наконец слово предоставили и раввину – Лайонелу Бенгельсдорфу, штат Нью-Джерси, которого толпа приверженцев Линдберга встретила особенно дружными и горячими аплодисментами и который участвовал в митинге, наряду с прочим, в доказательство того, что пресловутая связь Линдберга с нацистами – не что иное как грязный навет.
– Ммда, – сказал Элвин, – они его купили. Вот в чем дело. Продели в носяру золотое кольцо и водят за собой куда угодно.
– Не скажи, – возразил отец, но вовсе не потому, что сам не был возмущен поведением Бенгельсдорфа. – Давай послушаем. Человека нужно сначала выслушать до конца…
Обращался он к Элвину, но говорил скорее для Сэнди и для меня, чтобы не напугать нас чудовищным поворотом событий в той мере, в которой им были напуганы сами взрослые. Накануне ночью во сне я свалился с кровати, чего не случалось с тех пор, как я перебрался из младенческой кроватки, которую отец с матерью подпирали кухонными стульями, чтобы я из нее не выпадал. А когда было высказано предположение, переходящее в уверенность, что мое падение после столь долгого перерыва не могло быть обусловлено ничем иным, кроме предстоящего прилета Линдберга в Ньюарк, я принялся категорически отрицать тот факт, что прошлой ночью мне приснился Линдберг, утверждая, будто помню лишь, как проснулся на полу между двумя кроватями, собственной и брата, тогда как на самом деле знал, что с некоторых пор просто-напросто не могу уснуть, не вообразив предварительно Линдберга таким, каким он запечатлен на рисунках Сэнди, таящихся у него под кроватью. Мне постоянно хотелось попросить брата перепрятать эти рисунки куда-нибудь в кладовку, но поскольку я поклялся не говорить о них никому – и поскольку сам не мог расстаться с маркой, выпущенной в честь Линдберга, – мне было страшно поднять этот вопрос, не говоря уж о том, чтобы упрекнуть брата, в поддержке которого я сейчас нуждался как никогда раньше.
Вечер выдался холодный. У нас было включено отопление и закрыты окна, но, даже не слыша соседей, мы понимали, что радио орет по всему кварталу, и семьи, ни в коем случае не ставшие бы в иных обстоятельствах слушать трансляцию митинга в поддержку Линдберга, дожидались объявленного заранее выступления рабби Бенгельсдорфа. Кое-кто из его прихожан, обладающих определенным влиянием, уже потребовал его добровольной, а если рабби заупрямится, то и принудительной отставки, однако большинство продолжало поддерживать его, веря, что их духовный наставник всего-навсего реализует личное право на свободу слова, и, хотя публичное объяснение раввина в любви к Линдбергу ужаснуло их, они чувствовали себя не вправе затыкать ему рот, на протяжении долгих десятилетий столь медоточивый.
Этим вечером рабби Бенгельсдорф раскрыл глаза Америке на то, что, по его мнению, было подлинной причиной регулярных визитов Линдберга в Германию в тридцатые годы. Вопреки наветам, распространяемым его противниками, – сообщил раввин, – Линдберг бывал в Германии не как сочувствующий и тем более не как прямой приверженец Гитлера, но, напротив, как тайный советник администрации США. Бесконечно далекий от того, чтобы предать Америку, что бы ни утверждали злобные клеветники, полковник Линдберг, действуя практически в одиночку, крепил боевую мощь ВС США, делясь с ними почерпнутыми в Германии впечатлениями и делая все, что было в его силах, чтобы развить американскую авиацию и противовоздушную оборону…
– Господи, – вырвалось у моего отца. – Да ведь всем известно…
– Тсс, – зашипел Элвин. – Пусть великий оратор выскажется.
«Да, конечно, в 1936 году, задолго до обострения взаимоотношений между европейскими странами, нацисты наградили полковника Линдберга орденом, и – еще раз да – полковник принял эту награду, – продолжил меж тем Бенгельсдорф. – Но при всем при том, мои дорогие друзья, он всего лишь воспользовался их невольным восхищением для того, чтобы сберечь и защитить нашу демократию методом сохранения нейтралитета – вооруженного нейтралитета!»
– Не могу поверить… – начал было отец.
– Попытайся, – сердито буркнул Элвин.
«Это не американская война, – торжественно провозгласил Бенгельсдорф, и толпа на Мэдисон-сквер-гарден ответила ему растянувшейся на целую минуту овацией. – Это европейская война! – И вновь грянули продолжительные аплодисменты. – Это всего лишь эпизод в тысячелетней европейской войне, не утихающей со времен Карла Великого. И это уже вторая европейская война с катастрофическими последствиями за менее чем полвека. А разве можно забыть о трагической цене, которую заплатила Америка за участие в предыдущей европейской войне? Сорок тысяч американцев пали на поле брани. Сто девяносто две тысячи были ранены. Семьдесят шесть тысяч наших сограждан умерли от эпидемий. Триста пятьдесят тысяч американцев стали нетрудоспособными инвалидами. А о каких астрономических числах речь пойдет на этот раз? Наши потери, подскажите мне, президент Рузвельт, – они всего-навсего удвоятся или все-таки утроятся, а может быть, даже учетверятся? Объясните мне, президент Рузвельт, что за Америку мы обрящем, послав на массовое заклание наших невинных мальчиков?.. Разумеется, проводимые нацистами преследования и расправы над немецкими евреями вызывают у меня, как у любого другого еврея, глубокое возмущение. Изучая на протяжении долгих лет богословие в великих немецких университетах – в Гейдельберге и в Бонне, – я свел близкое знакомство с многими выдающимися людьми и замечательными учеными, которые сейчас – только из-за того, что они являются немцами еврейского происхождения, – просто-напросто вышвырнуты с кафедр и подвергаются безжалостной травле со стороны нацистских ублюдков, захвативших безраздельную власть в их родной стране. Всеми фибрами души я протестую против этого, и вместе со мной протестует полковник Линдберг. Но чем поможем мы этим несчастным, терпящим такие лишения у себя на родине, если наша великая страна ввяжется в войну с их мучителями? Если что-то для них и изменится, то только в худшую сторону, – причем, увы, скорее всего, в трагически худшую. Да, я еврей, и как еврей я принимаю их страдания близко к сердцу – по-родственному близко. Но я, друзья мои, американский гражданин… – Новые аплодисменты. – …я родился и вырос американцем, и как американец я спрашиваю: чем уменьшит мою скорбь вступление США в войну, в результате и вследствие которого, наряду с мальчиками из протестантских семей и мальчиками из католических семей, в бой – а значит, и на смерть – пойдут мальчики из еврейских семей – и усеют десятками тысяч трупов и без того напоенное кровью европейское поле брани? Чем уменьшит мою скорбь необходимость утешать уже и собственных прихожан в их неизбежном горе…»
И тут моя мать, вообще-то самая кроткая из нас и привыкшая всех, кто разволновался, успокаивать, внезапно сочла южный выговор Бенгельсдорфа настолько невыносимым, что, не произнеся ни слова, выбежала из комнаты. Но пока раввин не закончил свою речь и не снискал новую овацию на Мэдисон-сквер-гарден, больше никто из нас не покинул помещения, причем прослушали мы всё молча. Я бы и не осмелился, а мой брат по своему обыкновению сосредоточился на карандашных набросках с натуры – на сей раз, как мы все сидим, слушая радио. Молчание Элвина было убийственно тяжело, а отец – может быть, впервые в жизни человека никогда не унывающего из принципа, – был слишком смущен и растерян, чтобы сказать хоть что-нибудь.
Беснование. Достигшее апогея. Слово предоставляется самому Линдбергу. И, словно бы внезапно превратившись в полупаралитика, отец с трудом протягивает руку к приемнику и выключает радио как раз в тот миг, когда мать, преодолев себя, возвращается в гостиную.
– Кто-нибудь чего-нибудь хочет? – спрашивает она, и в глазах у нее стоят слезы. – Элвин, может быть, чаю?
Она удерживала наш мир, не давая ему распасться, удерживала спокойно и вместе с тем деликатно; это придавало ее существованию смысл и бытию – полноту, и, строго говоря, ей не нужно было ничего другого, – и все же никто из нас еще не видел ее – за всегдашними материнскими хлопотами – столь жалкой и в чем-то даже смешной.
– Что происходит? – взорвался отец. – Какого черта он это делает? Что за идиотство? Неужели он думает, будто найдется хоть один еврей, который, выслушав дурацкую речь, проголосует за этого антисемита? Он вообще знает, что делает?
– Кошерного Линдберга, – ответил Элвин. – Делает его кошерным для гоев.
– Кошерным, кого? – Мрачная острота Элвина взбесила отца или, по меньшей мере, показалась ему неуместной. – Кого делает?
– Его притащили на трибуну не для того, чтобы он убедил евреев. Это им ни к чему. Неужели тебе не ясно? – Элвин и сам разозлился, преисполнившись решимости вскрыть подноготную происходящего. – Он обращается к гоям. Он дает гоям свое личное раввинское благословение в день выборов проголосовать за Линди. Неужели ты не понимаешь, дядя Герман, зачем им понадобился Бенгельсдорф. Он только что обеспечил поражение Рузвельта!
Той ночью, около двух часов, я опять во сне свалился с кровати, но на этот раз запомнил, что снилось мне перед тем, как я очутился на полу. Это был кошмар, вертящийся вокруг моей коллекции марок. Что-то с нею стряслось. Рисунок двух серий изменился самым чудовищным образом, причем я не понимал, когда это произошло и почему. Во сне я снял альбом с полки и отправился с ним домой к своему другу Эрлу, что и наяву случалось чуть ли не каждый день. Эрлу Аксману было десять лет, он учился в пятом классе и жил вдвоем с матерью в четырехэтажном многоквартирном кирпичном доме, построенном всего три года назад на большом пустыре неподалеку от скрещения Ченселлор и Саммит, наискосок от начальной школы. Перед тем как переехать сюда, он жил в Нью-Йорке. Его отец был саксофонистом и играл в оркестре «Каса Лома» у Глена Грея. Си Аксман играл на теноре, а Глен Грей – на альте. Родители Эрла были разведены. Его мать, похожая на артистку ослепительная блондинка, и впрямь какое-то недолгое время – перед тем как Эрл появился на свет, – пела с тем же оркестром и, как утверждали мои родители, была родом из Ньюарка – натуральная брюнетка, евреечка по имени Луиза Свиг, отправившаяся завоевывать Саут-сайд и стяжавшая небольшую славу, выступая на вечерах YMHA[2]. Изо всех мальчиков, кого я знал, только у Эрла родители были в разводе, и только его мать сильно красилась, носила открытые блузки и пышные гофрированные юбки. Еще с оркестром Грея она записала песню «Будь такой или сякой» – и Эрл часто наигрывал мне эту мелодию. Матерей, похожих на нее, я просто-напросто не встречал. Эрл никогда не называл ее мамой или мамочкой, а совершенно непристойно – Луизой. У нее в спальне был полный комод нижнего белья, и когда мы с Эрлом оставались у него дома одни, он мне все показывал. Даже подбивал потрогать, видя мою нерешительность, «все, что хочется». Это были нижние юбки, но из другого ящика он извлек и лифчики и протянул их мне пощупать, но я отказался. Я был еще настолько мал, что мог восхищаться лифчиками на расстоянии. Отец с матерью каждую неделю давали Эрлу доллар на марки, а когда оркестр «Каса Лома» отправлялся на гастроли, мистер Аксман слал сыну письма с гашеными авиамарками буквально отовсюду. Одна из них была даже из Гонолулу, где мистера Аксмана, как утверждал Эрл, который был не прочь прихвастнуть подвигами постоянно находящегося в отсутствии отца (как будто сама по себе судьба сына страхового агента, ставшего саксофонистом в знаменитом оркестре и взявшего в жены крашеную блондинку-певицу, была для этого недостаточным поводом), пригласили в частный дом полюбоваться так и не пущенной в обращение «миссионерской» гавайской маркой 1851 года достоинством в два цента, которая была отпечатана за сорок семь лет до того, как Соединенные Штаты аннексировали Гавайи, и являлась баснословным сокровищем – сто тысяч долларов! – хотя внешне и не представляла собой ничего особенного: незамысловатое изображение цифры 2 – и не более того.
У Эрла была лучшая коллекция марок в округе. Все практические навыки и определенные эзотерические познания о марках, приобретенные мною в детские годы, почерпнуты у него: сведения по истории, коллекционирование вышедших из употребления матриц, чисто технические вопросы бумаги, печати, цвета, клея, гашения и спецгашения, искусство фальсификации, нечаянные изъяны. Причем Эрл, будучи по натуре педантом, начал мое обучение с рассказа о французском филателисте мсье Эрпене, который придумал и ввел в обиход сам термин «филателия», образовав его из двух древнегреческих слов, второе из которых – ateleia – означает освобождение от налогов, – тонкость, которой я так толком и не понял. Но каждый раз, когда мы, сидя у него на кухне, заканчивали возиться с марками, он тут же отбрасывал напускную важность и, захихикав, предлагал: «А теперь давай устроим что-нибудь гадкое!» Именно под предлогом этих «гадостей» меня и ознакомили с нижним бельем его матери.
Во сне я отправился к Эрлу, прижимая альбом к груди, и тут кто-то выкрикнул мое имя и пустился за мной в погоню. Я свернул на дорожку, ведущую к гаражам, чтобы спрятаться и проверить, не выпали ли из альбома какие-нибудь марки, пока я бежал от преследователя, спотыкаясь и даже однажды выронив альбом, – причем как раз в том месте на тротуаре, где мы регулярно играли в «Объявление войны». Дойдя до серии «Джордж Вашингтон» 1932 года выпуска – двенадцать марок с номинацией по возрастающей от темно-коричневой марки за полцента до ярко-желтой за десять, – я просто обомлел. Неизменной осталась надпись вверху каждой марки (я уже знал, как называется шрифт, которым она была набрана) – «Почтовая служба США», напечатанная попеременно то в одну строчку, то в две. Не изменился и цвет марок: двуцентовая осталась красной, пятицентовая – синей, восьмицентовая – оливково-зеленой и так далее. Все марки остались прежних размеров, и рамки, каждый раз разные, в которые были вставлены портреты, были теми же самыми. Но вместо двенадцати разных портретов Джорджа Вашингтона, как это было в оригинальной версии, со всех двенадцати марок на меня смотрел один и тот же портрет – причем не Вашингтона, а Гитлера. Да и подпись на орденской ленточке под каждым портретом гласила вовсе не «Джордж Вашингтон». Одни ленточки загибались концами книзу – как на полуцентовой марке и на шестицентовой, другие – кверху, как на четырех- пяти-, семи- и десятицентовой, третьи представляли собой прямую линию: центовая, полуторацентовая, двух-, трех- восьми- и девятицентовая, – но на каждой из них было написано «Гитлер».
Но когда я взглянул на первую страницу альбома, где у меня была серия из десяти марок 1934 года «Национальные парки», чтобы посмотреть, не случилось ли что-нибудь и там, я закричал, свалился с кровати на пол и проснулся. «Йосемити» в Калифорнии, «Гранд-каньон» в Аризоне, «Меса-Верде» в Колорадо, «Крейтер-Лейк» в Орегоне, «Акадия» в Мэне, «Маунт-Рейнир» в Вашингтоне, Йеллоустонский национальный парк в Вайоминге, «Зайон» в Юте, «Глейшер» в Монтане, «Грейт-Смоки-Маунтинс» в Теннесси – и на каждой марке прямо поверх гор, лесов, рек, горных пиков, гейзеров, кратеров, скалистых берегов, темно-синих вод и пенистых водопадов, поверх всего, что считалось в Америке самым синим, самым зеленым, самым белым, а потому нуждалось в неусыпной защите, теперь была напечатана черная свастика.
2. Еврейский болтун
Ноябрь 1940 – июнь 1941
В июне 1941 года, ровно через шесть месяцев после инаугурации Линдберга, мы всем семейством отправились за три сотни миль в Вашингтон, округ Колумбия, – посетить исторические места и знаменитые административные здания. Моя мать два года копила на эту поездку по доллару в неделю на так называемом «рождественском» счете в сберегательном банке Хауарда, выкраивая деньги из семейного бюджета. Путешествие было задумано еще в тот период, когда в Белом доме досиживал второй срок ФДР и демократы контролировали обе палаты парламента; теперь же, когда к власти пришли республиканцы, а вновь избранный президент казался нам врагом и изменником, перед поездкой вспыхнул небольшой семейный спор на тему о том, не изменить ли ее маршрут и не отправиться ли, например, на север – полюбоваться Ниагарскими водопадами, поплавать на лодочке по протокам вокруг Тысячи островов в устье реки Св. Лаврентия, а потом поехать на машине в Канаду и побывать в Оттаве. Кое-кто из наших друзей и соседей уже поговаривал о том, чтобы перебраться в Канаду в том случае, если политика администрации Линдберга станет откровенно антисемитской, и таким образом поездка в Канаду приобрела бы характер рекогносцировки на месте, которое может впоследствии оказаться спасительной гаванью. Еще в феврале мой двоюродный брат Элвин уехал в Канаду, намереваясь поступить на службу в тамошнюю армию, и значит, говоря его собственными словами, вступить на стороне англичан в схватку с Гитлером.
До своего отъезда Элвин на протяжении семи лет жил как бы под опекой моих родителей. Его покойный отец приходился моему самым старшим из братьев, и умер он, когда сыну было всего шесть, а мать Элвина – троюродная сестра моей матери и к тому же женщина, познакомившая моих родителей друг с другом, – умерла, когда ему было тринадцать, так что четыре года он просто-напросто прожил у нас, учась в «Виквахик хай-скул», – смышленый мальчик, играющий в азартные игры и крадущий все, что плохо лежит, которого моему отцу предстояло наставить на путь истинный. В 1940 году Элвину уже исполнился двадцать один год, он жил в меблированных комнатах на втором этаже над магазином на Райт-стрит, торгующим гуталином и кремом для обуви, – прямо за углом от продуктового рынка, – и уже почти два года работал в «Штейнгейм и сыновья» – то есть в одной из двух самых крупных строительных фирм города из числа тех, что принадлежали евреям (во второй такой фирме хозяйничали братья Рахлины). Работу Элвину дал Штейнгейм-старший – учредитель и основатель, страхованием бизнеса которого на регулярной основе занимался мой отец.
Старик Штейнгейм, говоривший по-английски с сильным акцентом и не умевший на этом языке читать, но отлитый, как говорил мой отец, «из чистой стали», до сих пор по субботам отправлялся в местную синагогу. Несколько лет назад, на Йом Кипур, увидев около синагоги моего отца с Элвином, он, ошибочно приняв моего двоюродного брата за родного, воскликнул: «А чем это вы занимаетесь, молодой человек? Если ничем, то идите работать к нам!» И Эйб Штейнгейм, один из «сыновей», превративший маленькую строительную фирму своего отца-иммигранта в крупную компанию с многомиллионным оборотом (правда, не без жестокой междуусобной войны, по итогам которой два его брата оказались вышвырнуты на улицу), с симпатией отнесся к крепкому и широкоплечему Элвину, из которого так и перла самоуверенность, и вместо того чтобы отправить его делопроизводителем или письмоводителем в контору, сделал своим личным шофером и порученцем: Элвин то передавал на места приказы и распоряжения Эйба, то возил его самого с одной стройки на другую проверять субподрядчиков, которых он именовал не иначе как жуликами, хотя, по рассказам Элвина, главным жуликом был сам Эйб, умеющий обмануть каждого и извлечь выгоду из любой ситуации.