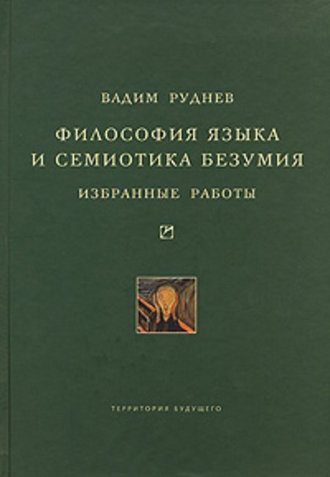
Полная версия
Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы
Именно поэтому, может статься, такую большую роль при диагностике и вообще при имении дела с психическими отклонениями играет текст. Текст служит эквивалентом тайны: «Что-то не в порядке между мной и миром, но я не знаю, что именно, и не знаю, почему это произошло и что мне с этим делать». Вот, возможно, такова будет полная развертка инвариантного психопатологического высказывания.
Для того чтобы компенсировать свои расстройства, текст прибегает к механизмам защиты. Они также могут находить выражение непосредственно в самом высказывании. Вспомним основные механизмы защиты: интроекция, проекция, идентификация (в том числе с агрессором), рационализация, изоляция, вытеснение, проективная идентификация, экстраекция, экстраективная идентификация.
Сравним ряд высказываний.
Может быть, ты мне это и говорил, но я этого не помню.
Смерть ужасна, но пока мы еще живы, мы можем пользоваться благами жизни.
Я вижу своего мертвого отца.
Я – Наполеон и Дева Мария.
Во всех моих несчастьях виноваты другие люди.
Это я виноват в смерти моей матери.
Часов однообразный бой, томительная ночи повесть (повторяется несколько раз).
В первом случае используется вытеснение. Возможно, говорящему была высказана какая-то претензия или важная информация, которая травматически на него подействовала, и он предпочел вытеснить ее и заявляет об этом во всеуслышание. Вообще, механизм забвения неприятного – наиболее универсальный механизм защиты, которым пользуются люди и тексты. При этом, как известно, это специфически истерический механизм защиты.
Специфически обсессивно-компульсивным механизмом является изоляция, когда человек повторяет несколько раз одну и ту же фразу, не вкладывая в нее каких бы то ни было эмоций: «Часов однообразный бой, томительная ночи повесть».
Депрессивный человек винит во всех грехах себя самого: «Это я виноват в смерти моей матери» – здесь действует интроекция. Паранойяльный человек обвиняет в своих несчастьях весь мир – здесь действует проекция.
Другим параметром, определяющим патологичность высказывания, являются модальности. Так, например, если взять аксиологические модальности, то ясно, что выражение в высказывании чего-то ценного или приятного – «Как хорошо жить!» – будет указывать на гипоманиакальное настроение, а противоположное по смыслу высказывание в духе «Как все плохо!» – на депрессивное. Констелляции высказываний с определенными модальностями могут служить важным диагностическим критерием. Так, если человек в своей речи склонен часто употреблять конструкцию «Я должен» – «Я должен это сделать», «Я должен завершить эту работу» или даже «Я должен сегодня пойти в кино», то это указывает на обсессивно-компульсивный комплекс. Если же в высказывании чаще употребляется аксиологическое «Я хочу» – «Я хочу это сделать», «Я хочу (или наоборот – не хочу) завершить эту работу», «Я хочу пойти в кино», то это указывает на истерический комплекс (подробно о соотношении модальностей и характеров см. в нашей книге «Характеры и расстройства личности»). Употребление деонтического «должен» не с первым лицом, а со вторым или третьим, может указывать на эпилептоидный или паранойяльный комплекс: «Ты должен завершить эту работу», «Все должны соблюдать правила», «Они должны уйти». Алетические модальности указывают, как правило, на шизофренический комплекс, ту сферу, где происходит чудо: «Я слышу удивительные вещи, которые мне нашептывают инопланетяне», «Очень часто я вижу мертвых людей и разговариваю с ними» и т. д.
Совокупность психопатологических высказываний, их различные констелляции и языковые игры образует то, что можно назвать практиками безумия. Это особая проблема, требующая отдельного рассмотрения.
Практики безумия – это своеобразные языковые игры, нарушающие логические и, возможно, психологические постулаты здравого смысла и формирующие свои постулаты безумия. Наиболее распространенные практики безумия – галлюцинации, когда воображаемое принимается за реально существующее. Возможно, языковая игра в регистре реального и воображаемого и есть наиболее фундаментальная практика безумия.
Как соотносится регистр воображаемого и реального с регистром закона рефлексивности? Входит ли нарушение закона рефлексивности в качестве важного, если не непременного условия, в практики безумия? Если А не равно А, то следует ли из этого, что реальное равно воображаемому? Здравый смысл утверждает, что у человека может быть только одно сознание, одно Я. Если у одного человека увеличивается количество сознаний (как это имеет место при множественной диссоциативной личности или при бреде двойника, когда у одной личности обнаруживается два или несколько сознаний), это создает предпосылку для потери тестирования реальности и принятия воображаемого за реальное. То, что на языке Блейлера стало называться шизофреническим схизисом, создает предпосылку, например, для возникновения галлюцинаций. Если я одновременно свидетельствую о себе как об одном сознании и, в то же время, фундаментально нарушаю закон рефлексивности, из этого почти автоматически следует, что реальное можно подменить воображаемым. Когда личность расщепляется на несколько субсознаний (вводим этот термин, чтобы не говорить «субличностях», так как «субличности» не означает автоматически следования практикам безумия, хотя и создает для них некоторые предпосылки), одно из них может выражать традиционную точку зрения обыденной реальности, а другое – осуществлять галлюцинаторную деятельность, т. е. практику безумия.
Но является ли схизис, расщепление сознания, его раздвоение, нарушение закона рефлексивности обязательным условием для осуществления практик безумия? Другими словами, может ли человек галлюцинировать, если его сознание воспринимается им самим или оценивается другими со стороны как целостное и нерасщепленное. В том-то и дело, что трудно в каком-то очень важном смысле говорить о целостном и нерасщепленном сознании. Ведь если существуют сознательная и бессознательная инстанции, если существуют Суперэго и Ид, то речь изначально не идет о некоторой целостности, разве что, наоборот, об интегрированности изначальной нецелостности.
Но вопрос задан более однозначно: можно ли галлюцинировать при отсутствии схизиса? Допустим, я вижу своего умершего отца и при этом я сохраняю единство своего сознания. Может ли так быть? Я знаю, что я – такой-то, а не другой человек, что мне столько-то лет и т. д. И при этом я вижу своего умершего отца. Что же позволяет мне галлюцинировать, то есть воспринимать воображаемое как реальное? Ладно, оставим пока галлюцинацию умершего отца. Предположим, что у меня бред преследования. Я вижу, как меня преследуют спецслужбы. Означает ли это, что мое сознание потеряло целостность? И причем здесь вообще целостность моего сознания? Могу ли я сказать, что лишь какую-то диссоциированную часть моего сознания преследуют спецслужбы, а другая часть остается неповрежденной или поврежденной, но как-то по-другому? Что вообще делает практику преследования практикой безумия? Что отличает бред преследования от подлинного преследования, когда человека на самом деле преследуют спецслужбы?
Только одобрение и подтверждение со стороны окружающих может объективизировать практику преследования, сделать ее не безумной, а просто экстремальной. Это значит, что когда я говорю: «Меня преследуют такие-то люди», то мне говорят: «Да, это очень тревожный факт, тебе придется принять какие-то меры, возможно, скрыться на некоторое время или отдаться на волю могущественного покровителя». Если же окружающее говорят: «Никто его не преследует, просто у него паранойя», то значит, я осуществляю практику безумия.
Но где же здесь место расщеплению или нерасщеплению моего сознания? Имеется ли зависимость между тем, что безумный, например, говорит, что дважды два иногда четыре, а иногда 16, и тем, что он видит мертвого отца или бредово полагает, что его преследуют спецслужбы? На первой взгляд, никакой зависимости здесь не обнаруживается. Человек вообще может быть прекрасным математиком и при этом у него может быть бред преследования (как у героя фильма «Beautiful mind»). Значит ли это, что у безумного какая-то одна часть остается неповрежденной, а другая повреждается. По-видимому, это справедливо для параноидной стадии, но уже не так для парафренной. Когда человек говорит: «Я – Иисус Христос, Наполеон и Дева Мария», по всей видимости, у него не остается неповрежденных частей. Может ли при этом парафреник правильно складывать числа? Я сильно сомневаюсь в этом. Может быть, остатками своей здоровой личности он и может совершить какое-то незамысловатое арифметическое действие, но тогда он теми же остатками может и вспомнить, кто он такой на самом деле, что тоже, вероятно, случается и на парафренной стадии. Существование как минимум двух частей личности – здоровой (или более или менее здоровой) и безумной – создает некий конфликт, которого на парафренной стадии как будто уже не существует.
Практики безумия осуществляются в последовательностях высказываний, могущих образовывать целые языковые игры. Так, можно выделить следующие практики: депрессивную, гипоманиакальную, истерическую, обсессивно-компульсивную, паранойяльную, шизотипическую, преследования, величия.
Т. А. Михайлова (Т. М.). Все это очень хорошо. Но представь себе, что текстов вообще нет.
В. П. Руднев (В. Р.). Как это нет текстов?
Т. М . Ну, в мире просто нет текстов. Тогда получается, что и психических заболеваний больше не будет?
В. Р. Конечно. А откуда же им взяться; если нет текстов, то, стало быть, нет и людей. Кому же болеть-то?
Т. М . Означает ли это, что тексты появились раньше людей и тем самым психические заболевания тоже появились раньше людей?
В. Р. Нет, не означает. Они появились одновременно. Когда первый австралопитек что-то такое сказал, то это было высказывание скорее не «Не пойду я в кино», а «У меня душа болит».
Т. М . Но ведь первые люди не знали противопоставления между текстом и реальностью, между внутренним и внешним, стало быть, противопоставления галлюцинации и не галлюцинации тоже не было. А если не было такого фундаментального противопоставления, то значит не было и практик безумия, и самого безумия вообще не было.
В. Р. Верно говоришь, безумие, конечно, появилось с распадом мифологического мышления, когда текст стал отделяться от реальности. Вот тогда и стал возможен бытовой текст типа «Маша, пойдем в кино». Еще есть вопросы?
Т. М . Да нет, теперь, вроде, все стало на свои места.
В. Р. Ну, тогда поговорим о тексте и реальности.
ТЕКСТ И РЕАЛЬНОСТЬ: НАПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ В КУЛЬТУРЕ
Наука XX века сделала три важнейших открытия в области осмысления собственных границ. Эти три открытия стали методологической основой нашего исследования.
1. Действительность шире любой описывающей ее системы; другими словами, мышление человека богаче его дедуктивных форм. Этот принцип был доказан Куртом Геделем в теореме о неполноте дедуктивных систем.
2. Для того чтобы адекватно описать какой-либо объект действительности, необходимо, чтобы он был описан в двух противоположных системах описания – это принцип дополнительности, сформулированный Нильсом Бором в квантовой механике, а затем перенесенный на любое научное описание Ю. М. Лотманом, который говорил, что мы неполноту знания о реальности компенсируем его стереоскопичностью.
3. Невозможно одновременно точно описать два взаимозависимых объекта – это расширенное понимание так называемого соотношения неопределенностей Вернера Гейзенберга, доказывающего невозможность одновременного точного измерения координаты и импульса элементарной частицы. Философский аналог этого принципа был сформулирован Л. Витгенштейном в его последней работе «О достоверности»: «Для того чтобы сомневаться в чем-либо, необходимо, чтобы нечто при этом оставалось несомненным. Этот принцип можно назвать принципом дверных петель. Вопросы, которые мы ставим, и наши сомнения основываются на том, что определенные предложения освобождены от сомнения, что они словно петли, на которых вращаются эти вопросы и сомнения. То есть это принадлежит логике наших научных исследований, что определенные вещи и в самом деле несомненны. <…> Если я хочу, чтобы дверь вращалась, петли должны быть неподвижны» (Разрядка Л. Витгенштейна. – В. Р.) [Витгенштейн, 1994: 342].
Опираясь на эти принципы, можно утверждать, что текст и реальность – базовые понятия этой книги – сугубо функциональные феномены, различающиеся не столько онтологически, с точки зрения бытия, сколько прагматически, то есть в зависимости от точки зрения субъекта, который их воспринимает. Другими словами, мы не можем разделить мир на две половины и, собрав в одной книги, слова, ноты, картины, дорожные знаки, Собор Парижской Богоматери, сказать, что это – тексты, а собрав в другой яблоки, бутылки, стулья, автомобили, сказать, что это – предметы физической реальности.
Знак, текст, культура, семиотическая система, семиосфера, с одной стороны, и вещь, реальность, естественная система, природа, материя – с другой, – это одни и те же объекты, рассматриваемые с противоположных точек зрения.
Текст – это воплощенный в предметах физической реальности сигнал, передающий информацию от одного сознания к другому и поэтому не существующий вне воспринимающего его сознания. Реальность же мыслится нашим сознанием как принципиально непричастная ему, способная существовать независимо от нашего знания о ней.
В разных типах языкового мышления время моделируется по-разному, но тем или иным образом моделируется всегда. Получается, что время – универсальная характеристика и физической реальности, и знаковой системы. Однако семиотическое время, время текста, время культуры противоположным образом отличается от времени физической реальности.
Важнейшим свойством физического времени является его анизотропность, то есть необратимое движение в одну сторону; эта особенность физического времени отмечается практически всеми философами, стоящими на естественнонаучных позициях [Грюнбаум, 1969; Рейхенбах, 1962; Уитроу, 1964]. В соответствие с этим свойством ни один момент в мире не повторяется полностью, мы не можем повторно оказаться в прошлом и не можем заглянуть в будущее.
Со второй половины xix века наиболее общепринятой в рамках естественнонаучной картины мира является интерпретация временной необратимости через второй закон термодинамики, согласно которому энтропия в замкнутых системах может только увеличиваться. Связь временной необратимости с возрастанием энтропии была статистически обоснована в конце xix века великим австрийским физиком Людвигом Больцманом [Больцман, 1956] и в середине XX века подробно разработана философом-позитивистом Гансом Рейхенбахом [Рейхенбах, 1962].
Общая термодинамика, – писал Л. Больцман, – придерживается безусловной необратимости всех без исключения процессов природы. Она принимает функцию (энтропию), значение которой при всяком событии может изменяться лишь односторонне, например, увеличиваться. Следовательно, любое более позднее состояние Вселенной отличается от любого более раннего существенно большим значением энтропии. Разность между энтропией и ее максимальным значением, которая является двигателем всех процессов природы, становится все меньше. Несмотря на неизменность полной энергии, ее способность к превращениям становится, следовательно, все меньше, события природы становятся все более вялыми, и всякий возврат к прежнему количеству энтропии исключается [Больцман, 1956: 524].
По определению Г. Рейхенбаха, направление времени совпадает с направлением большинства термодинамических процессов во Вселенной – от менее вероятных состояний к более вероятным. Мы не можем оказаться «во вчера» потому, что в мире за это время произошли необратимые изменения, общее количество энтропии возросло. В соответствии с этим принципом в мире, в котором мы живем, «сигареты не возрождаются из окурков».
Но поскольку в сторону возрастания энтропии направлены не все термодинамические процессы в разных частях Вселенной, а только большинство из них, то существует гипотетическое представление о том, что в тех частях Вселенной, где энтропия изначально велика и поэтому имеет тенденцию уменьшаться, время движется в обратном направлении. Связь с такими мирами, по мнению основателя кибернетики Норберта Винера, одного из приверженцев данной гипотезы, невозможна, потому как то, что для нас является сигналом, посылающим информацию и тем самым уменьшающим энтропию, для них сигналом не является, так как у них уменьшение энтропии есть общая тенденция. И наоборот, сигналы из мира, в котором время движется в противоположном направлении, для нас являются энтропийными поглощениями сигналов.
Если бы оно (разумное существо, живущее в мире с противоположным течением времени. – В. Р.) нарисовало нам квадрат, остатки квадрата представились бы нам любопытной кристаллизацией этих остатков, всегда вполне объяснимой. Его значение казалось бы нам столь же случайным, как те лица, которые представляются нам при созерцании гор и утесов. Рисование квадрата представлялось бы нам катастрофической гибелью квадрата – внезапной, но объяснимой естественными законами. У этого существа были бы такие же представления о нас. Мы можем сообщаться только с мирами, имеющими такое же направление времени [Винер, 1968: 85].
Таким образом, поскольку энтропия и информация суть величины, равные по абсолютной величине, но противоположные по направлению, то есть с увеличением энтропии уменьшается информация, то время увеличения энтропии и увеличения информации суть времена, направленные в противоположные стороны.
Любой текст есть сигнал, передающий информацию и тем самым уменьшающий, исчерпывающий количество энтропии в мире. Таким образом, поскольку любой предмет реальности в нашем мире изменяется во времени в сторону увеличения энтропии, а текст ее исчерпывает, то следовательно можно считать, что сам текст движется по времени в противоположном направлении – уменьшения энтропии и накопления информации. Таким образом, текст – это «реальность» в обратном временном движении. Поэтому то, что является текстом у наших временных антиподов (рисование квадрата), для нас – событие реальности (катастрофическая гибель квадрата), и наоборот.
Переключение с точки зрения реальности на точку зрения текста есть переключение с увеличения энтропии на увеличение информации. Объект как предмет физической реальности изменяется во времени от менее энтропийного состояния к более энтропийному; то есть разрушается; объект как текст изменяется во времени от более энтропийного состояния к менее энтропийному, то есть созидается.
Вещи увеличивают энтропию, тексты увеличивают информацию. Вещи движутся в положительном времени, тексты – в отрицательном. Последнее кажется парадоксом, потому что мы привыкли представлять движение по времени как движение по пространству, то есть спациализированно, в терминах Анри Бергсона. Для нас движение от прошлого к будущему представляется в виде луча прямой, движущегося слева направо. Отсюда и заводящая в данном случае в тупик метафора Артура Эддингтона «стрела времени». Ибо, представляя отрицательное движение по времени, мы поневоле представляем движение справа налево, то есть нечто, кажущееся в принципе противоестественным, наподобие обратного прокручивания киноленты. Можно сказать, что мировая линия событий в физическом мире представляет собой не луч прямой от менее энтропийного состояния к более энтропийному, но кривую, где при общей тенденции к возрастанию энтропии имеются отрезки, на протяжении которых энтропия понижается. Поскольку время текста направлено в противоположную сторону по отношению ко времени реальности, то следующие три постулата Г. Рейхенбаха о необратимости энтропийного времени:
(1) Прошлое не возвращается.
(2) Прошлое нельзя изменить, а будущее можно.
(3) Нельзя иметь достоверного знания (протокола) о будущем [Рейхенбах, 1962: 35–39]
в информативном времени текста соответственно меняются на противоположные:
(Г) Прошлое текста возвращается, так как каждый текст может быть прочитан сколько угодно раз.
(2’а) С позиции автора прошлое текста изменить можно, так как автор является демиургом всего текста.
(2’б) С позиции читателя нельзя изменить ни прошлое, ни будущее текста. Если читатель вмешивается в текст, пытаясь изменить его будущее, то это говорит о том, что он воспринимает текст как действительность в положительном времени.
(3’) Можно иметь достоверные знания о будущем текста.
Сравним две фразы:
Завтра будет дождь.
Завтра будет пятница.
Первое высказывание является вероятностным утверждением. Нельзя точно утверждать, что завтра будет дождь. Второе – достоверным, так как в той семиотической среде, в которой оно произносится, названия дней недели автоматически следуют одно за другим. Поэтому в тексте возможен не только praesens historicum, но и futurum historicum. Обратимся к свидетельству одного из основателей философии истории, философии времени и семиотики Святому Августину, который анализирует семиотическое время во многом сходным образом.
Таким-то образом совершается наше измерение времени: постоянное напряжение души нашей переводит свое будущее в свое прошедшее, доколе будущее не истощится совершенно и не обратится совершенно в прошлое. Но каким образом будущее, которое не осуществилось еще, может сокращаться и истощаться? Или каким образом прошедшее, которое не существует уже, может расти и увеличиваться? Разве благодаря тому, что в душе нашей замечается три акта действования: ожидание (expectatio – то же, что чаяние, упование, надежды), внимание (attentio – то же, что взгляд, воззрение, созерцание, intuitus) и память или воспоминание (memoria), так что предмет нашего ожидания, делаясь предметом нашего внимания, переходит в предмет нашей памяти. Нет сомнения, что будущее еще не существует, однако же в душе нашей есть ожидание будущего. Никто не станет отвергать и того, что прошедшее уже не существует; однако же в душе нашей есть воспоминание прошедшего. Наконец нельзя не согласиться и с тем, что настоящее не имеет протяжения (spatium), потому что оно проходит для нас неуловимо (in puncto praeterit) как неделимое: но внимание души нашей останавливается на нем, посредством чего будущее переходит в прошедшее. Поэтому не время будущее длинно, которого еще нет, но длинно будущее в ожидании его. Равным образом не время прошедшее длинно, которого нет уже, но длинно прошедшее по воспоминанию о нем. Так, я намереваюсь, положим, пропеть известный мне гимн, который знаю наизусть. Прежде, нежели начну его, я весь обращаюсь при этом в ожидание. Но когда начну, тогда пропетое мною, переходя в прошедшее, принадлежит моей памяти, так что жизнь моя при этом действии разлагается на память по отношению к тому, что пропето, и ожидание по отношению к тому, что остается петь, а внимание всегда присуще мне, служа к переходу от будущего в прошедшее. И чем далее продолжается действие мое, тем более ожидание сокращается, а воспоминание возрастает, доколе первое не истощится совершенно и не обратится всецело в последнее. И что говорится о целом гимне, то можно приложить и ко всем его частям и даже к каждому из слогов. То же самое можно применить и к действиям более продолжительным, по отношению к коим этот гимн служит только краткою частичкою; и к целой жизни человека, коего все действия суть части ея; наконец и к целым векам сынов человеческих, коих разные поколения и единичные жизни составляют части одного целого [Августин, 1880: 363–364].
Время жизни текста в культуре значительно больше времени жизни любого предмета реальности, так как любой предмет реальности живет в положительном энтропийном времени, то есть с достоверностью разрушается, образуя со средой равновероятное соединение. Текст с течением времени, наоборот, стремится обрасти все большим количеством информации.
В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» текст и реальность конверсивно меняются местами. Текст (портрет героя) стареет, тогда как герой остается вечно молодым. Но эта подмена на поверхности оборачивается глубинным сохранением функций текста; старея, он тем самым передает информацию герою о его злодеяниях, как бы став его этическим зеркалом. Смерть Грея восстанавливает исходную ситуацию: текст вновь молодеет, мертвый герой моментально превращается в старика.
Таким образом, чем старше текст, тем он информативнее, так как хранит в себе информацию о своих прежних потенциальных восприятиях. Барочная сюита выступает для нас как «серьезная музыка», и в то же время в своей структуре она хранит следы потенциального ее восприятия как музыки легкой, танцевальной, какой она была в эпоху ее создания, подобно современной легкой музыке, которую, как можно вообразить, через много веков будут слушать с той сосредоточенностью, с какой мы слушаем легкую музыку прошлого. Наоборот, духовная музыка – католическая месса, реквием, пассион – воспринимается нами как светская вне того ритуального контекста, явные следы которого несет ее текст. Поэтому в определенном смысле мы знаем о «Слове о полку Игореве» больше, чем современники этого памятника, так как он хранит все культурные слои его прочтений, обрастая огромным количеством комментариев. При этом, как справедливо отмечает основоположник феноменологической эстетики Роман Ингарден, мы не восстанавливаем непонятные места текста из знания реальности, а скорее наоборот, восстанавливаем прошедшую реальность по той информации о ней, которую хранят тексты.


