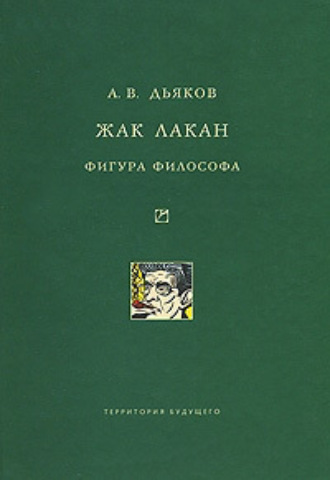
Полная версия
Жак Лакан. Фигура философа

А.В. Дьяков
Жак Лакан
Фигура философа
«Человек» – это не вы и не я. То, что мыслит, никогда не есть то, что мыслится, и если первое обладает определенной формой и голосом, то второе может принимать любую форму и любой голос. В этом смысле никто не человек, и г-н Тест меньше, чем кто бы то ни было.
Не был он также и философом и ничем в этом роде, даже литератором. Поэтому он много думал – ибо, чем больше пишешь, тем меньше думаешь.
Он непрерывно наращивал в себе нечто мне неизвестное: быть может, увеличивал до бесконечности скорость постижения, быть может, добивался беспредельной легкости в произвольных умственных построениях. Так или иначе, он остается для меня самым весомым персонажем из всех, кого я встречал, – иными словами, единственным, кто прочно присутствует в моем сознании».
П. Валери. Господин ТестВВЕДЕНИЕ
Существуют интерпретации настолько справедливые и правильные, что невозможно сказать, соответствуют ли они истине.
Ж. Лакан. Семинары. Т. 1Речь у нас пойдет о Лакане. Фигура эта многогранна и противоречива. Вернее даже, существует множество фигур Лакана. О каждой из них можно написать отдельную книгу, причем без надежды отыскать самую главную фигуру, по отношению к которой все остальные окажутся лишь ее проекциями. И тем не менее нам представляется, что за этими множащимися фигурами стоит та, которая задает тон всем остальным, такая, которую, пользуясь выражением самого Лакана, можно было бы назвать Nom-du-Pére. Эта фигура даже не маячит за всеми другими, она может оказаться любой из них и ни одной из них – по преимуществу. Эта фигура – фигура Лакана-философа. О ней и написана эта книга.
Такая позиция вызовет (и мы хотим, чтобы вызвала) праведный гнев психоаналитиков: всем известно, что Лакан был психоаналитиком, и его приверженность психоанализу увела его даже от психиатрии. Да и сам он не раз подчеркивал, что никоим образом не считает себя философом. А раз так, то какое право имеет философия на Лакана? Она ведь ничего не может сказать о бессознательном, а если поиск бессознательного, как утверждал Лакан, имеет своим центром вопрос об истине, то и здесь философия не может предложить ничего, кроме более или менее произвольных конструкций, взгромоздившись на которые она заявляет о своих претензиях судить истину. Все это справедливо, как справедливо и замечание Фрейда: «Я умышленно говорю “в нашем бессознательном”, ибо то, что мы так называем, не совпадает с бессознательным у философов»[1]. И тем не менее мы беремся утверждать, что единственная возможность понять Лакана заключается в том, чтобы понять его как философа. Вернее, как фигуру-философа. Ведь то, что называет бессознательным Лакан, не совпадает с бессознательным у Фрейда, а гораздо ближе к тому, о чем говорят философы[2]. Аргументацией этого тезиса и должна послужить настоящая книга, хотя, конечно, это не единственная ее задача.
Д. Мулинье замечает, что существует три возможных прочтения Лакана: философское, психоаналитическое и, наконец, нефилософское и непсихоаналитическое[3]. В силу изложенных соображений мы будем тяготеть к философскому прочтению, поверяя его нефилософским, вернее, тем, что Ж. Делез назвал понимающей нефилософией, в которой нуждается философия. Конечно, нам не удастся избавиться от Лакана-психоаналитика. Однако мы наотрез отказываемся от такого психоаналитического прочтения, при котором действия героя и его теоретические построения выводятся из эдипального треугольника или оральной стадии и которым, увы, грешит даже такой несравненный знаток лакановского творчества, как Э. Рудинеско. При этом мы постараемся блюсти принцип, высказанный тем же Мулинье: «Чтобы изучать Лакана, необходимо не быть ни лаканистом, ни антилаканистом»[4].
Если мы признаем, что Лакан не был профессиональным философом, нужно заодно признать и то, что он не был профессиональным психоаналитиком, несмотря на то, что хорошо зарабатывал психоанализом. Как пишет Б. Ожильви, «Жак Лакан, французский врач-психиатр, получивший традиционное образование, начал с того, что поставил перед собой серию новых теоретических вопросов, исходя не из психоанализа, но из психиатрии, а равным образом из философии»[5]. Фрейдовская теория, к которой он пришел в своих поисках, была для него хотя и важнейшей, но все же одной среди многих. Его положение в психоанализе всегда было маргинальным, как мы намерены показать, именно в силу того, что занимавшая его проблематика и сам способ проблематизации были философскими, а не психоаналитическими.
«Полагать, что люди действительно думают то, что говорят, – одно из самых больших и постоянных заблуждений»[6], – говорил Лакан. К нему самому это применимо в высшей степени. Обращаясь к творчеству этого замечательного мыслителя, нечего и думать понять его исходя из его текстов, вернее, из того, что он некогда сказал и что теперь стало текстами. Но и свободная интерпретация его учения едва ли приемлема, поскольку несет в себе опасность приписать Лакану то, чего он не говорил. Единственно возможным, если мы хотим получить достоверную картину, оказывается третий путь: следовать за развитием мысли Лакана, предоставив ей самой складываться в причудливую мозаику. Конечно, стремиться к полному устранению авторской интенции – дело безнадежное. Но вот попытаться, перефразируя Фуко, «дать слово самому Лакану», т.е. написать генеалогию его учения, можно. Этим мы и займемся.
Лакан был практикующим психиатром и психоаналитиком. Поэтому, как справедливо замечает Б. Финк, «попытка разделить работу Лакана на теорию (лингвистика, риторика, топология, логика) и практику (клинический психоанализ, техника)… обречена на провал»[7]. «Его творчество декларативно, а не демонстративно»[8], Лакан непрестанно предлагает новые формулировки и концепты, «объясняя» старое новым. Однако всякая новая формулировка не составляет системы, Лакан вновь и вновь обещает нам, что мы поймем его, как только прочитаем еще один семинар. Однако очередной текст отсылает к другому, и систематичности мысли мы не находим. Сам Лакан признавался: «Я знаю – каждый раз, когда мы расстаемся, вы задаете себе один и тот же вопрос: Что же он в конце концов хочет сказать? И вы совершенно правы, потому что так, разумеется, об этих вещах не говорят, и это вам непривычно»[9]. Если кто-то сетовал на непонятность излагаемых им идей, он легко соглашался: все это говорится не затем, чтобы понимать, но затем, чтобы этим можно было воспользоваться.
Начиная с семинара 1955-1956 гг. у читателя возникает ощущение, что Лакан уподобился своим пациентам, выдумал свой собственный мир и бесконечно уточняет свои фантазматические объекты. Такое ощущение возникло, кстати, не только у нас, но и у Умберто Эко, который, явно метя в Лакана, писал: «Я привыкал к одержимцам, как психиатр к клинике, психиатр, привязывающийся к пациентам, к старинным деревьям больничного парка. Проходит время, он пишет десятки страниц по бреду, потом начинает писать десятки страниц бреда. Он не ощущает, что больные его переманили. Он думает, что это художественно»[10].
Поэтому нам приходиться обращаться не к какому-то конечному продукту, но к потоку лакановской речи. Лакан не считал свое учение философским, что, впрочем, не мешает философам искать систему лакановской мысли. Этим скользким путем volens nolens придется следовать и нам. У психоаналитиков такой подход неизменно вызывает протест[11]. Однако что же они могут предложить взамен? Практику лаканистского психоанализа? Но ведь прежде нужно выяснить, что такое лаканизм и что такое практика в лакановском понимании, – тогда, быть может, мы получим шанс понять, что, собственно, представляет собой психоанализ Лакана. В противном случае нам останется лишь повторять за ним маловразумительные заклинания. Таким образом, нам все-таки придется счесть Лакана философом (у философов никаких возражений на этот счет не возникает) и поверять его мысль философией.
Следуя за ходом эволюции лакановской мысли, мы обратимся к его биографии, которая, конечно же, будет интересовать нас не сама по себе (хотя и это весьма любопытно), но в том отношении, в каком она определяет те или иные линии развития его учения. Как все великие люди, Лакан стал объектом обширного мифотворчества. Как выразился М. Боуи, «Лакан – автор, о котором рассказывают истории, могущие стать объектом основательного социологического исследования той силы, которой в “передовой” электронной культуре все еще обладают слухи и фольклор»[12]. Этот фольклор способен многое сообщить нам о своеобразной субкультуре психоанализа (что для понимания фигуры Лакана было бы чрезвычайно полезно), однако в настоящем исследовании мы, понятное дело, не станем приводить все анекдоты без разбора. Говоря о такой исследовательской установке, нельзя не сказать о той литературе, на которую мы опираемся.
Прежде всего мы обращаемся к первоисточникам, и здесь нас поджидает первая и самая значительная трудность. Лакан был мыслителем сократовского типа, излагавшим свое учение изустно («…Мною руководит… импульс, питающийся многочисленными заметками и передающийся вам, свидетелям моей одержимости»[13], – говорил он в 1970 г). За исключением своей диссертации по психиатрии, написание которой было вызвано академическими требованиями, он не написал ни одной книги. Его статьи появлялись по воле обстоятельств, а не в силу внутренней потребности. Но, несмотря на то, что Лакан на протяжении многих десятилетий всячески противился фиксации своих устных выступлений, сегодня нам приходится иметь дело с поистине необъятной литературой. Прежде всего, 27 его «семинаров», застенографированных и существующих во множестве вариантов. Частью они уже изданы в редакции Ж.-А. Миллера (только четыре тома вышли при жизни их автора). Поскольку редакция, по свидетельству многочисленных слушателей Лакана, была несколько вольной, существует потребность обратиться к стенограммам некоторых семинаров, особенно поздних, которые получили широкое хождение еще при жизни Мэтра, а сегодня, в эпоху цифрового копирования, выплеснулись на просторы Сети. Ж.-А. Миллер, зять Лакана, ставший его душеприказчиком, неоднократно предпринимал судебные преследования пиратских изданий семинаров, многие из которых тем не менее зарегистрированы во французской Национальной библиотеке. При работе с этими текстами приходится соблюдать большую осторожность, тщательно выясняя их происхождение (мы опирались лишь на ресурсы официальных лаканистских обществ).
Вышедший в 1966 г. сборник лакановских работ «Écrits» не охватил все написанные к тому времени статьи, поэтому приходится обращаться к огромному количеству текстов, разбросанных по старым журналам. Мы постарались составить наиболее полную библиографию текстов Лакана, однако вероятность того, что какие-то из них остались вне ее, теоретически существует (впрочем, существенно важными для понимания лакановского учения они заведомо не являются). Наконец, сохранились сотни выступлений Лакана на конференциях, симпозиумах и коллоквиумах, представляющих собой замечания по поводу выступлений других людей, порой пара фраз, а порой целые речи. Лакан, как известно, был мастером импровизации. И сегодня, по меткому выражению М. Марини, «мы колеблемся, спрашивая себя, кто написал то, что мы цитируем под именем Лакана»[14].
Работа со всем этим громадным корпусом текстов представляет собой тяжелый и зачастую неблагодарный труд: Лакан редко формулирует свое учение в концентрированной форме, и приходится перерабатывать огромное количество (зачастую пустой) породы ради нескольких крупиц золота. Проделав такую работу, мы вправе предположить, что именно в силу изложенных обстоятельств изучение лакановского учения требует больших усилий, а на выходе получается сравнительно небольшой исследовательский текст. Больших работ о Лакане не существует, за одним исключением, о котором сейчас пойдет речь, но это исключение представляет собой историко-биографический текст.
«История Жака Лакана – это история французской страсти в бальзаковском духе»[15], – пишет Э. Рудинеско. А история страсти неизменно обрастает обширной комментаторской литературой. Исследовательская литература, посвященная Лакану, чрезвычайно обширна, и к ней мы постоянно обращаемся, особенно во второй части настоящей книги. Однако в этом необъятном пространстве стоят особняком тексты Э. Рудинеско, представляющие для нас первостепенную важность. Речь идет о четырех томах, посвященных истории психоанализа во Франции. Первые два охватывают развитие французского психоаналитического движения начиная с 6 мая 1885 г. (даты встречи Фрейда и Шарко) и заканчивая 1985 годом[16]. Третий том посвящен непосредственно Лакану[17], а четвертый[18] рассказывает об истории появления первых трех. Кроме того, последняя книга тетралогии содержит исключительно интересный материал, касающийся хронологии, истории распространения и сравнительного изучения психоанализа в различных регионах мира[19].
«Мало кто из людей проявлял в той же мере, как и он, желание сохранить в тайне или же в неприкосновенности ту часть своего существования, что касается его детства или семейных корней», – пишет Э. Рудинеско[20]. Мы мало знаем о его детстве (едва ли несчастливом, несмотря на некоторые едкие замечания самого Лакана) и годах его учебы – к тому времени, когда появилась потребность в биографии Лакана, тех, кто был свидетелем его первых шагов, уже не стало. Еще меньше мы знаем о тех пяти годах молчания, за которые он не напечатал н и строчки, что не до конца можно списать на тяготы войны – для Лакана это время было отнюдь не таким тяжелым, как для многих других французских интеллектуалов. Сам он постарался стереть все следы своей довоенной деятельности, представ явившимся ниоткуда самобытным мыслителем. Однако некоторые следы все же сохранились, и мы вскоре двинемся по ним. Зато в послевоенные годы и до самой своей смерти Лакан был на виду, и этот самый продуктивный в творческом отношении период его биографии, эта осень его жизни, растянувшаяся чуть ли не на полвека, хорошо известна.
Обращаясь к биографии Лакана, мы не можем обойти вопрос о периодизации его творчества. Существующие периодизации используют два основания: одни опираются на эволюцию лакановской мысли, другие – на смену возглавляемых Лаканом коалиций. Так, М. Боуи выделяет пять фаз лакановской эволюции: 1) учение о стадии зеркала; 2) поворот к соссюровской лингвистике и Гегелю; 3) учение о трех регистрах; 4) учение о патернальном означающем; 5) создание универсальной теории. Однако такая периодизация мало что сообщает о хронологическом развитии мысли Лакана, представляя собой, скорее, тематическую рубрикацию его творчества. Д. Мулинье, рассматривая лакановскую мысль как по преимуществу учение о субъекте, предлагает более любопытную схему ее эволюции, фиксирующую ориентацию на те или иные философские концепции: 1) учение об интерсубъективности и субъекте желания (1930-1940-е гг.: Гегель, Кожев и Батай); 2) учение о субъекте речи и parlêtre (1950-е гг.: Хайдеггер); 3) учение о субъекте означающего и субъекте бессознательного (1960-е гг.: Декарт); 4) учение о субъекте симптома (1970-е гг.: Платон и Аристотель). Еще интереснее подход Ж.-П. Жильсона[21], который вместо периодизации лакановского творчества предлагает ее «топологию»: 1) прелиминарии; 2) структура желания; 3) учение о пользовании; 4) сублимация симптома. Опора на хронологию здесь, впрочем, сохраняется. Мы не следуем ни одной из указанных периодизаций, предпочитая не помещать творчество Лакана в строгие схемы.
От Лакана не приходится требовать строгой систематичности, ибо его мышление носит практический, можно даже сказать, прикладной характер. Как сам он говорил, «есть проблемы, которые нужно иметь решимость бросить нерешенными»[22]. Его язык весьма сложен и перенасыщен аллюзиями и скрытыми отсылками к всевозможным литературным источникам. Кроме того, от сюрреалистов (а может быть, и от своих пациентов) он унаследовал манеру играть созвучиями. Метонимия – не просто означающая функция языка, но и орудие анализа. Так, в «Инстанции буквы» речь идет одновременно о «букве, бытии и другом» (la lettre, l’être et l’autre). Со временем эта склонность к языковым играм растет и приводит к тому, что М. Боуи назвал «полу-теоретической магией» (semi-theoretical incantation)[23]. «Изобретать новые слова, – заметил Кант, – значит притязать на законодательство в языке, что редко увенчивается успехом»[24]. В случае Лакана затея увенчалась несомненным успехом.
Стиль Лакана складывался из множества разнородных элементов: почерпнутая у иезуитов казуистика, проповеднический стиль латинских христианских авторов, сюрреалистическая бредовость, тяжеловесный стиль немецкой философии и поэтическая легкость языка Малларме. Кроме того, в его языке присутствовало еще и то, что Р. Уэбб и М. Селлс называют «мистическим апофазисом»[25]. Лакан ищет истину субъекта, но высказывать эту истину – значит говорить от имени этого субъекта, т.е. истину ему навязывать. Поэтому саму истину он предпочитает умалчивать.
«Все знают, что я весел, даже шаловлив: я развлекаюсь, – говорил Лакан. – В своих текстах мне случается постоянно предаваться шуткам, которые не во вкусе преподавателей университета»[26]. Действительно, у Лакана был весьма своеобразный вкус, у университетских преподавателей вызывающий законное раздражение. Например, Д. Мэйси назвал тексты Лакана «сущей провокацией или обскурантизмом»[27], а В. Мейснер предупреждает, что «чересчур близкий контакт [с его идеями] чреват заражением смертельным вирусом»[28]. Деррида заметил, что «“стиль” Лакана как нельзя более подходил к тому, чтобы долгое время затруднять любой доступ к какому-либо очерчиваемому содержанию, к какому-либо однозначному смыслу, который бы можно было уловить по ту сторону написанного»[29]. Наконец, даже ученик Лакана С. Бенвенуто признает: «Нет ничего удивительного в том, что Лакан выводил из себя многих своих коллег, ведь под маской респектабельного психоаналитика он обнаружил эпистемологического канатоходца. Его шутовской стиль, эксцентричность, проводимые с дадаистским юмором смехотворные сеансы скандальны и по сей день, поскольку самым ярким образом обнаруживают невозможную позицию фрейдовского дискурса, навеки зависшую между подозрениями в жульничестве и харизмой туманных откровений»[30]. В самом деле, есть нечто комическое в том, что Лакан, всегда ратовавший за ясность и понимание, сам оказывается столь темным автором, да еще открыто заявляет, что практикуемый им психоанализ – это мошенничество.
Начитанность и колоссальная эрудиция Лакана неизменно поражали тех, кто сталкивался с ним. А сам он скромно замечал: «В чтении я себе не отказываю»[31]. Впрочем, считать самого Лакана литератором было бы преувеличением. Как справедливо замечает Э. Рудинеско, «Лакан не интересуется ни литературой как таковой, ни писателями, которых он хотел бы сделать своими сторонниками. Он мыслит как философ, логик и глава школы, и если его перо – перо писателя, он всегда пользуется литературными произведениями для того, чтобы показать обоснованность своего учения. Они нужны ему в качестве орнамента»[32]. Тем не менее Лакан признавал, что его «Écrits» – «это литература, поскольку это написано и продается»[33].
Еще одной важной особенностью этой «литературы» является обилие графических схем и рисунков, с которых Лакан начинал едва ли не каждое свое выступление. К этим графемам можно относиться по-разному. Многие слушатели семинаров утверждали, что это чуть ли не единственная возможность следовать за мыслью Лакана. Другие же считают их необязательными. Так, М. Марини пишет: «…Я не уверена, что топология сама по себе может считаться решающим вкладом в психоанализ. Так же и психоанализ ничего не решает для топологии. Думаю, скорее стоит вести речь об интеллектуальной потребности подкрепить одну дисциплину другой, заставить их коммуницировать, ввести их в более широкое поле знания»[34]. Сам Лакан тоже колебался в этом вопросе: то он признавал, что речь идет о простой аналогии, то утверждал, что только графемы придают строгость психоанализу. Нам представляется разумным занять некую среднюю позицию, обращаясь к лакановским «графам» там, где это необходимо, но не пытаясь рабски воспроизвести весь геометрический мир, который Лакан вычертил на десятках классных досок и салфеток из ресторанов.
Лакан всегда нес с собой опасность ереси и раскола[35]. Он стал ключевой фигурой в длительном процессе отделения французского психоанализа от Международной психоаналитической ассоциации. Он никого не изгонял; напротив, обычно изгоняли его. Однако эти изгнания неизменно кончались тем, что он уводил с собой наиболее творческую часть французских аналитиков. Те, кто его отлучал, могли сколько угодно утверждать, что очистили свои ряды, избавившись от паршивой овцы. Но у Лакана были все основания утверждать, что в его фигуре и заключен французский психоанализ, доказательством чему стал небывалый взлет популярности оного в конце 1960-х гг. и его быстрый закат после смерти Лакана. Каждый новый раскол, спровоцированный Лаканом, имел своим результатом формирование новой институции, представлявшей очередную версию лаканизма. Поражает то обстоятельство, что все эти лаканизмы существуют по сей день и имеют многочисленных приверженцев.
Мы должны предупредить читателя, что настоящая книга, хотя и освещая все эти расколы в той мере, в какой это соответствует ее задачам, не является историей лаканизма. Мы надеемся, что такой труд в России появится в обозримом будущем. В рамках одной работы невозможно обозреть все стороны столь многообразного феномена, как Лакан. В конце концов, на Западе давно уже стали нормой капитальные исследования, анализирующие творчество Лакана в свете картезианства, феноменологии или гегельянства. После нашего труда могут (и должны) появиться такие и у нас. Мы надеемся, что наша книга станет лишь первой в ряду исследований, посвященных этой теме, и подготовит почву для появления работ, освещающих другие стороны лакановского творчества[36]. Коль скоро он вызовет неудовлетворенность психоаналитиков (а иначе и быть не может), это должно стать стимулом для написания работы, подробно освещающей лакановский «фрейдизм». Не считая Лакана фрейдистом и не признавая определяющего влияния Фрейда на его творчество, мы признаем не только правомерность, но и необходимость такого труда. Кроме того, необходимо отдельное историко-психиатрическое исследование лакановского учения. И, конечно же, исследование историко-культурное. Мы лишь закладываем основание и надеемся на то, что эта работа будет продолжена.
Книга состоит из двух частей. В первой прослеживается в хронологическом порядке развитие лакановского учения в связи с фактами биографии его основателя и с историей психоанализа во Франции. Во второй предлагается ряд поперечных срезов лакановской мысли, позволяющих прояснить происхождение и смысл его основных концептов. И то, и другое в равной степени необходимо. Мысль Лакана эволюционирует, однако постоянство общих интуиций позволяет рассматривать ее как целое. Итак, повторим еще раз то, с чего мы начали: в настоящей книге мы будем двигаться от рассмотрения длительностей к их структурному анализу.
ЧАСТЬ I
ПРОЛОГ
ПСИХОАНАЛИЗ ВО ФРАНЦИИ
«Когда же придет время логиков и философов-сновидцев?»
А. Бретон. Манифест сюрреализмаКогда молодой Лакан начинал свою медицинскую карьеру, во Франции господствовали три школы, так или иначе представлявшие французский вариант психоанализа. Первой была динамическая психиатрия, родившаяся из философии Просвещения и реформированная в начале XX в. Цюрихской школой. Второй – психология Пьера Жане, ученика Ж. Шарко и ближайшего конкурента Фрейда. Третьей – философия А. Бергсона, чей концептуальный аппарат представлял все необходимое для разработки галльской версии психоанализа. Все три течения опирались на идеал «галльского духа» со свойственными ему противопоставлением французской civilisation германской Kultur и германофобией, усилившейся в годы Первой мировой войны, когда понятия «пансексуализм» и «пангерманизм» стали представляться тождественными.
Психоанализ проникал во французскую интеллектуальную среду начиная с 1914 г., и главная его особенность на галльской почве заключалась в том, что медицина и литература сыграли в его адаптации одинаково важную роль. Исследователи склонны объяснять эту особенность той ролью, которую играла литература во французском обществе в период между двумя мировыми войнами. В ту эпоху, когда еще не произошли демократические реформы образовательной системы, культура оставалась достоянием элиты. Писатель в этих условиях был не просто художником, но теоретиком и проводником политических идей. Ситуация изменилась только после Второй мировой войны, когда писатели стали занимать куда более скромную нишу (представители «нового романа» уже не вели баталий в защиту фрейдизма, их задачей стала литературная критика). Пока же литература оставалась той единственной средой, через которую могли распространяться новые культурные веяния.



