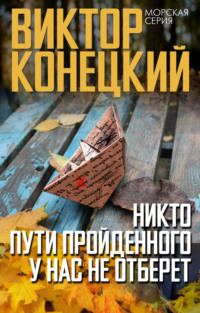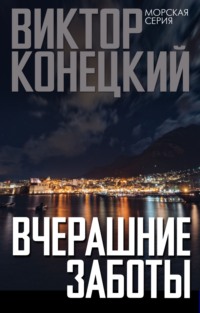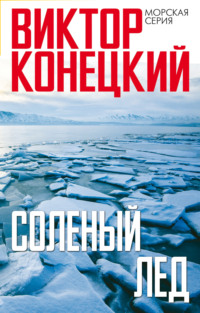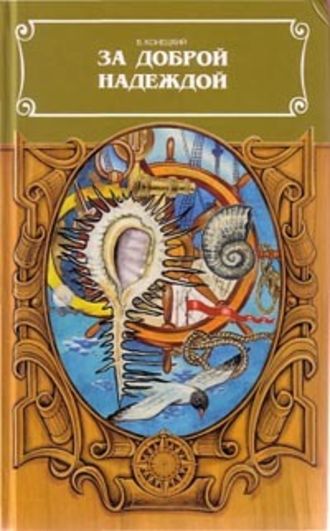 полная версия
полная версияЗа Доброй Надеждой
Солнце пекло сквозь высокие облака. Редкие деревья были серыми и жидкими. Магазинов не было. Трамваев не было, троллейбусов не было, автобусов не было, такси не было.
Пакгаузы. Мачты и трубы судов над крышами пакгаузов. Пустынность. Пыль на лопухах. И, несмотря на жару, выпить хочется не прохладительного, а как раз горячительного.
– Н-да, – сказала Мария Ефимовна. – Покурим. У тебя какие?
– Польские гвоздики.
– Дожили! У меня «Беломор».
Потом мы похвастались друг перед другом зажигалками и обменялись ими.
– Скучной дорогой ты меня ведешь, – сказал я. – Сенегальская глубинка. Ноги гудят с непривычки.
– Подожди. Есть тут местечко. Там посидим. А вообще, мила только та сторона, где пупок резан.
Она вывела меня на маленькую площадку, совсем безлюдную, окаймленную зарослями кустарников с яркими цветами, которые не пахли. За кустарником был двухсотметровый обрыв. И – океан.
Даль океана была густой синевы, она впитала свободу трех тысяч километров межконтинентального простора.
От дали и обрывной пропасти кружилась голова.
Внизу, как на фотографиях из космоса, видны были отдельные струи прибрежных течений.
Прибой медлительно взбаламучивал песчаное дно. Изумрудно просвечивала на отмелях каменная постель океана.
По обрыву сползала к узкой полоске белого пляжа широкая городская свалка. Одинокая цепочка следов от босых человеческих ног тянулась вдоль полосы, оставшейся после отлива воды.
И ветер океана. И запах океана.
Когда ты в пространстве океана, он тоже пахнет густо и коварно. Но только на берегу океанский запах можешь понять как следует, потому что в ноздрях он борется с запахом земли и оттеняется им.
Огромность океанского пространства. Ее тоже можно понять и ощутить только с земли. И тот пошляк, который шутил: «Люблю море с берега, а флотский борщ в ресторане», недалеко ушел от величественной истины: только на стыке стихий или идей ощущаешь бездонность мировой красоты.
Мы сели с Ефимовной на самый край обрыва, на теплые камни, в тени рекламного кинощита. На щите изнывал от одиночества и желтой пыли облинялый Жан Габен – Жан Вальжан.
– А Поддубный помер, Петр Степанович, – сказала Ефимовна и вздохнула. – Знал такого?
– Фамилию вроде слышал...
– Новые кладбища мне решительно не нравятся. Могилы – как огородные грядки, сплошная геометрия, – заявила Ефимовна и швырнула в Атлантику камешек. – И почва глинистая – даже бурьян на такой почве расти не будет. Про цветочки и говорить нечего. Правда, при помощи геометрии я Степаныча нашла быстро. Живой не без места, мертвый не без могилы... Мы с ним еще в тридцатые годы сюда, в Дакар, заходили. На «Клязьме».
Рассказывать о прошлом Ефимовна любит, как любит и ходить на кладбища к старым соплавателям, носить на могилки торф, ухаживать за цветочной рассадой. Смерти, мне кажется, она совсем не боится. И часто повторяет загадочную фразу: «Смерти саваном не ублажишь».
В свои новеллы Ефимовна подпускает элементы чудесного и фантастического – эти средства поэтизации, соответствующие фольклорному мировоззрению морских слушателей.
– Веселый был Петр Степаныч. Жаль, ты его не помнишь. Просил, чтобы его в зимнем пальто и валенках хоронили. Иначе, мол, друзьям-морякам и нести на кладбище будет нечего. Росту в нем было полтора метра, веса меньше трех пудов. А фамилия – Поддубный. Теперешним людям такая фамилия ничего не скажет. Забыли силача, циркового атлета. Петр Степаныч для смеху себя за его сына выдавал. Только был он, когда мы еще вместе плавали, не Петр Степаныч, а третий штурман Петька Поддубный – сорванец и трепач. Организовал на «Клязьме» художественную самодеятельность – отличные ребята подобрались, способные, веселые комсомольцы... Капиталисты в Сингапуре как-то не дали нам угля. Пришлось целый месяц угольщика дожидаться. Скучища. И вот первый концерт. Кочегар Фома Иванов – сверхгромадной комплекции мужчина. К каждой руке привязано по венику. Раздет, конечно, до кальсон. И в таком виде Фома плавно вылетает на трюмный люк, машет вениками-крыльями и вокруг корыта с водой делает круги, изображает птицу. И поет. Голосок у гиганта тоненький был, как у соловушки. Летает он вокруг корыта, машет вениками и поет: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит; ей много простора, ей много свободы, луч солнца у чайки крыло золотит...» И так он грустно пел, Фома, что даже плакать захотелось. И тут вылез на палубу с ракетным пистолетом Петр Степаныч. Рожа разрисована под свирепого дикаря. Подползает к чайке, целится из пистолета. А Фома все поет и вокруг корыта летает, не видит опасности. Петька Поддубный – трах! – стреляет. Фома хвать себя веником за сердце и падает в корыто. Убил охотник чайку! Все вокруг ногами дрыгают от смеха...
Мария Ефимовна с удовольствием закурила новую «беломорину». Кладбищенские воспоминания никак не угнетали ее. Только маленько спать хотелось хранительнице исторических преданий, составительнице родословных, ценительнице традиций прошлого свободного мореплавания. Так называю я про себя Марию Ефимовну Норкину.
– Да. А пришли во Владивосток – Петька деньги потерял, получку всего экипажа. Подумать только – с такого рейса вернулись, а он деньги потерял! Загулял по дороге с бичменом, тот и увел портфель. Засел штурманец в кают-компании, голову в грязную тарелку положил и навзрыд рыдает. Бьет себя в грудь и кричит, что на все готов и сейчас сам за борт прыгнет, что жизни ему нет! «Ведомости тоже стибрили? – спрашиваю тогда я. – Сколько мне насчитано было?» – «На тебе ведомости, подавись своими ведомостями!» – орет он. А я возьми да и распишись в получении денег. Тут у Петра Степаныча истерика случилась. Слезы даже из ушей полились. Норовил роспись вычеркнуть химическим карандашом. Но вся художественная самодеятельность тоже расписалась, отличные были комсомольцы – не для денег и фарцовки жили, для правильной жизни жили. Увели Петьку в каюту, посадили под замок, чтоб он чего не вытворил. И к вечеру весь экипаж расписался, кроме контры-капитана. Контре ребята собрали полную сумму из своих последних заначек. И стояла «Клязьма» в порту Владивосток тихая, как овечка. Ни одного человека в милицию не забрали – монолитную морально-политическую сознательность матросики проявили. В море капитан стюарда вызвал и вернул через него деньги ребятам. Может, совесть заговорила, может, личного состава застеснялся. И долго потом – несколько лет, до самой войны – то один, то другой из моречманов с «Клязьмы» получал вдруг денежный перевод. Ребята затылки чесали – не понять было, не вспомнить, какая у них добрая тетя нашлась? А это маленький Поддубный долги отдавал. Жена, говорили, от него ушла – надоело ей с хлеба на квас перебиваться. Ясное дело – надоест... После войны он военным остался. Эсминцем целым командовал. Нет, флотом! – закончила Ефимовна, напустила слюны в мундштук и выщелкнула окурок в Габена.
Я легко простил ей некоторую гиперболизацию судьбы героя и его возможностей, ибо это естественные черты всякого эпоса.
– Ефимовна, ты в кого окурком стреляешь? Это же великий артист! Знаешь его?
– Габена? Да ты, Викторыч, очумел! Да я его живого, как тебя, видела! В Марселе на киносъемках. Он капитана спасательного судна изображал...
– А что он сам моряк, знаешь?
– Ты скоро в моряки и Майю Плисецкую запишешь.
– Он, Ефимовна, был старшиной второй статьи. Он командовал танком в полку морской пехоты в дивизии генерала Леклерка. Он на танкере пересек эту голубую Атлантику в сорок третьем, когда здесь держали верхи немецкие подлодки. Он въехал в Париж на своем танке в тельняшке. И больше всего в жизни он гордился тем, что был старшиной второй статьи, а не офицером. Он, вообще-то, терпеть не может военных...
– Я помню тебя в кителе, – сказала Мария Ефимовна. – И хомутики на плечах от погон. Спороть тебе недосуг было. Я их спорола. Ты большим офицером был?
– Совсем маленьким, Ефимовна.
– Ты молодым строгий был. Я тебя даже боялась.
Она мне льстила. Она знала, что я хочу быть строгим, хотя плохо способен к этому. Это потому, что мой дух ленив. Он не терпит напряжений. Идеал моего духа – Обломов. Другое дело, что Обломов нам только снится.
– Как Ваську-то на Диксоне выгнал! Я его до сей поры помню и жалею. Не встречал больше?
– Нет.
Атлантический океан под нами вздувался, притапливал мели, вода теряла зелень, синела – шел прилив.
– Скоро ты будешь дома, – сказала Ефимовна. – Может, успеете к Новому году?
– Вряд ли успеем.
– Двуличный ты человек, – сказала Ефимовна. – И я двуличная. В море хочешь на берег. На берегу хочешь скорее в море.
– Становишься философом, – сказал я. – Повторяешь старые истины. Все мы амфибии.
Несколько недель назад я думал об этом на противоположном берегу Атлантики, на горе Эль-Серро в Уругвае, возле старинной пушки, колеса которой погрузились в землю, лафет растрескался, а на дульном срезе росла ромашка.
Я стоял над таким же обрывом. Внизу канал Интермедио и проход Банко-Чико вели к Буэнос-Айресу кораблики величиной с муху. Кораблики-мухи оставляли за собой медленно расходящиеся веера кильватерного следа. Была тишина. Штиль. Ясное, четкое, но не палящее солнце. Пальмы кивали на величие океанских пространств равнодушно, привычно. Бараны, белые, кудрявые, как бороды древнегреческих философов, бродили вокруг по скалам. С ними вместе карабкались по скалам белые лошади. Белое живое – среди океанской сини и красных цветов незнакомых кустарников. И надо всем – маяк на вершине Эль-Серро.
Белые лошади на уругвайских скалах, белый скелет кита на желтом берегу Анголы, из белого камня кресты на черных берегах Исландии, белые молчаливые фрегаты возле Огненной Земли...
Проходят строки волн
По летописи века...
Я давно свыкся с мыслью, что мы в некотором смысле ведем двойной образ жизни и являемся не более сухопутными, чем морскими существами. Это мысль Страбона. Ее надо понимать так же широко, как слова Эйнштейна: «Все начинается со звезд».
Если не будете специально следить признаки амфибийности вокруг, не заметите их. И тогда мои рассуждения покажутся домыслами мариниста. Но попробуйте искать океан вокруг себя – и найдете даже в Омске. Конечно, искать надо тщательно. Как средней известности писатель ищет в печати свою фамилию.
– Викторыч, у меня к тебе просьба... – тихонько сказала Ефимовна и даже как-то засмущалась.
– Давай.
– Напиши про Степаныча рассказ, а? Как он всю жизнь долги отдавал, а?
– Честно: роман у тебя со Степанычем был?
– Ага, Викторыч.
– А может, выдумываешь?
– А может, и выдумываю. Все равно напиши про него. Если не рассказ, то сказку, ладно?..
Вечером мы отошли на рейд Дакара.
Утром «Литва» снялась на Рио.
Я смотрел из окна каюты в бинокль и углядел Ефимовну. Она на променад-деке стояла и выглядывала меня. На уходящий в прошлое Дакар ей наплевать было.
Среди белых роб матросов-пассажиров Ефимовна четко выделялась черным платьем. Сложенным зонтиком она защищала глаза от солнечного и океанского блеска. И ничем в нашу сторону не махала. Старая морячка знала, как мало шансов увидеть на другом судне товарища за считанные минуты расхождения. Товарищ или спит, или ест, или на вахте, или играет в «шиш-беш».
Я пожелал кастелянше спокойного рейса, и чтобы коридорные не рвали простыни на тряпки, и чтобы старпом вовремя составил акт на списание прожженных сигаретами пассажиров наволочек.
Прощай, моя старая гевель, как называют здесь, на старой африканской земле, хранительниц традиций, тех традиций, которые существуют только устно, как существуют у нас поваренные советы по приготовлению какой-нибудь царской пасхи. Прощай, моя старинная подруга, к простым словам твоим, составительница родословных безвестных людей, наверное, иногда было бы так полезно прислушиваться королям...
«Литва» пробурлила мимо ровный кильватерный след и скоро стала бликом среди других океанских бликов. И слова моей прощальной тирады улетели вслед за ней. И где-то там упали в волны.
«Первый, кто найдет их, попадет в рай» – так заканчивают сенегальцы свои сказки.
Под вой трехглазых хоботовых
Древние греки очень ценили пение цикад, и, как известно, Анакреон написал оду в честь цикад.
Энциклопедический словарь Брокгауза и ЕфронаИз Дакара мы снялись на Касабланку. Был ранний вечер. Штиль. Заходящее солнце вдавливается в океан, прогибает огромной пылающей тяжестью горизонт.
Золото в голубом.
Остров Горе. Он действительно пропитан горем черных рабов – здесь был пересыльный пункт невольников, но название острова ничего общего с нашим «горем» не имеет. Просто одинаково звучит.
Ночью усиливающийся ветер. Какая-то непонятная, чуточку сумасшедшая радиограмма от матери. Уже запредельно она соскучилась. «Соскучилась» не то слово. Когда старая женщина, думая о ежедневной возможности смерти, ждет сына после семи месяцев рейса – это уже не скука.
Дурные телепатические подергивания души. Страх. Нервы. Вдруг заметил в передней грани ковша Большой Медведицы что-то раздражающее – третью звезду! Что за чертовщина? Долго тряс головой, зажмурив глаза, как лошадь, у которой застряла в глотке краюха черствого хлеба. Наконец искоса опять глянул на Медведицу. Третья звезда сместилась! Спутник! Идет по меридиану прямым курсом на Полярную. Медленная деловитая звездочка. Я выругался. И понял, что путешествие для меня продолжается только внешне. Внутренне оно закончилось. И потому бесит даже невинный спутник. И не хочется в Касабланку.
После вахты видел очередной сон. Третий штурман Женя – скрытый юморист, осторожный выгадыватель, тщательный судоводитель, уклончивый тип – ворует где-то старинные книги и приносит их мне штука за штукой в подарок. И я знаю, что дурно брать ворованное, но нет сил не брать. Отчетливо запомнились названия книг и их внешний вид: «Воспоминания моряка о старой Москве», сборник на старорусском о гибели судов, огромные фолианты (коричневые) с акварелями шедевров мировой архитектуры. И на всех книгах: «Издание Присыпина». Причем этот неведомый Присыпин только что помер, а его книжный склад и грабят разные Жени. В том же сне я ел черешню. Цветущий сад, черешня, я хожу между деревьев и рву черешню... Жадность к книгам была во мне нездоровая, трясущаяся, дух перехватывающая, подленькая. Откуда вдруг такое? Долго думал и вспоминал разное мелочное недавнее. Вероятно, такое книжное приснилось по ассоциации с Базуновым. Был такой книгоиздатель – мой дальний и древний родственник. На его фамилию натолкнулся недавно в примечаниях к Достоевскому.
Вышли из тропиков, быстро холодеет.
Вечером приказ повернуть на сто восемьдесят, идти обратно в Дакар, там встретиться с теплоходом «Ладогалес», дать ему топлива. Мы уже в тысяче миль от Дакара. Туда тысячу, обратно тысячу. Во сколько обойдется тонна топлива?
Противно возвращаться. Опять вытаскиваешь из нижнего ящика штурманского стола отработанные карты, стираешь плохой резинкой старые курсы, прокладываешь новые по изношенной бумаге. Как бы аккуратно ни относиться к карте, она даже после одной-единственной прокладки теряет невинность, перестает излучать девическое обаяние. А у наших карт на бородавках уже седые волоски выросли.
Опять отмель Арген, опять с калейдоскопической быстротой мелькают с левого борта названия африканских государств. Много их. Опять остров Горе и мыс Зеленый.
Двадцать восьмого декабря подошли к Дакару. Территориальные воды Сенегала шесть миль. Стали на внешнем рейде в семи милях от береговой черты, вне зоны досягаемости властей.
Ждем «Ладогалес».
Ребята из экспедиции вылезли на палубу – повальное загорание, свальный грех с солнцем. Часами ползают вокруг надстроек, прячась от резкого ветерка с океана, и жарятся. За полгода все загорели, конечно. Но нормально загорели, по-человечески. А надо сногсшибательно. Зачем? Чтобы удивлять на январских слякотно-снежных улицах бледных ленинградцев. Такими предвкушениями полны души научных сотрудников, этим они и живы.
Умный Мериме заметил, что игра в домино – прообраз и школа мелкой политики. Теперь ясно, почему «козел» – морская игра. Без мелкой политики в экипаже не просуществуешь. Но у нас уже и в «козла» давно не играют: слишком интеллектуально, утомляет. Из развлечений только «шиш-беш» осталось. Азартная игра, азиатская.
Перед ночной вахтой проснулся от скрипа, скрежета и ора цикад. Они верещали SOS, заплутавшись в стальном лабиринте судна. Отвратительные жуки-жужелицы. Они умудрились проникнуть в каюту сквозь задраенное стекло и запертые двери. Одного я обнаружил быстро. Он сидел возле настольной лампочки. Лампочка создавала жуку иллюзию самого жаркого времени дня, хотя было двадцать три часа пятьдесят минут. Этого иллюзиониста я накрыл полотенцем и, вздрагивая от страха и отвращения, вытряхнул в коридор. Отвратительный жук с большой головой и огромными глазами. Он бултыхался в полотенце – новорожденный Геракл, а не насекомое! На обнаружение и эвакуацию второго времени оставалось мало. Он хитро замаскировался или замимикрировался. И поверхностный обыск не дал ничего. А я уже опаздывал на вахту минуты на четыре – редкий для меня случай.
Надо было еще обязательно сполоснуть физиономию. После вечернего сна телесной и духовной свежести в моряке не остается ни на грош.
Склоняясь над умывальником, я буквально оглох от близкого скрипа, скрежета и ора цикады. Самец сидел в шпигате умывальника! Оттуда торчали его усы. Вытаскивать мокрого жука из шпигата было слишком тяжело моим интеллигентным нервам. Кроме того, я признаю только честную игру. Жуку надо было дать возможность доказать свое жизнелюбие, мужество и изворотливость. Я слегка прикрыл шпигат пробкой и оставил течь из крана маленькую струйку воды. Если жук выберется на свободу при таких обстоятельствах, он заслужил право на жизнь – так я решил. И помчался на мостик. Опоздание было уже около шести минут.
– Прости, бога ради, Женя, задержали форс-мажорные обстоятельства! – объяснил я третьему штурману.
– Чего такое?
– Цикаду ловил.
– Пролезла в каюту?
– Ага.
Он фыркнул над школьной тетрадкой, в которую заносил очередную туфту под названием «Дневник рейса».
Евгений Николаевич Чернецов вслух фыркал редко. Он был скрытым юмористом. Я обнаружил его юмор в «Дневнике рейса». Среди официального, серьезного, ответственного текста, отражающего нашу работу по обеспечению небесных объектов в южном полушарии, там время от времени попадались посторонние слова. Например: «На якоре рейда Каргадос. Симпатичной рыбы нет. 08.20. Сменили место якорной стоянки. Рыбы тоже нет». Или: «Снялись из порта Лас-Пальмас в Атлантический океан. Отоварка плохая, но лучше, чем в Гибралтаре».
Евгений Николаевич твердо верил в то, что «Дневник рейса» не будет прочитан ни единым человеком на свете, кроме него самого. Он ошибся. Этот документ хранится в моем письменном столе. За 29.12 отмечено: «Подошел т. х. „Ладогалес“. Сдаем излишек топлива. Приняли на борт 10 567 сверчков».
Судно кишмя кишело вопящими жуками.
Оказывается, «Ладогалес» вез копру и другие ароматные товары для кондитерской промышленности. Запах кокосов привлек цикад. Они облепили «Ладогалес» на подходе к Дакару. А теперь распределились равномерно между «Ладогалесом» и нами.
Я вышел из штурманской рубки в отвратительном хрусте – цикады гибли под подошвами. Свежепокрашенные спасательные вельботы напоминали арену Колизея, усеянную распятыми христианами. Жуки влеплялись в непросохшую краску и вопили предсмертные псалмы. Боцман Гри-Гри должен был утром сойти с ума. Ему предстояло шкрябать вельботы и красить по новой.
В ночи под правым крылом мостика хрипло ругался мой коллега – вахтенный помощник «Ладогалеса». Я перегнулся через леер и пожелал ему традиционной «спокойной вахты». Он поднял голову и ответил тем же. «Ладогалес» был меньше «Невеля». Их пеленгаторный мостик был ниже нашего крыла.
Приятно стоять вахту, когда рядом другое судно, новые люди, чужие голоса. Даже вой цикад не так ужасен – на миру и смерть красна.
Между бортами бегемотами копошилась слабая зыбь, поскрипывали кранцы.
Была полночь. Огни Дакара полукольцом охватывали рейд.
Ни коллеге, ни мне нечего было делать. Только коротать время. Нас на несколько часов связали пуповины топливных шлангов.
– Откуда идете? – спросил я коллегу.
Он поднялся на пеленгаторный мостик, чтобы быть ко мне поближе. Мы обменялись сигаретами, изучая лица друг друга, убедились в том, что не встречались раньше, и тихо разговорились.
Они прошли на восток Северным путем и должны были вернуться на запад тоже через Арктику, но ледовая обстановка оказалась тяжелой, дальше Амбарчика они не пробились, едва успели выбраться за мыс Дежнева. Поработали на востоке, взяли копру в Индонезии и шли домой югом. Устали, конечно. Мастер простыл на Диксоне, когда ездил там на рыбалку. Его скрючило. Спит на горячем песке. Характер у мастера всегда был не ахти, а в скрюченном виде стал еще хуже. Еду ему готовят отдельно, а ест это, отдельно приготовленное, он при всех, в кают-компании. И еще кряхтит, хватается за поясницу...
Я спросил, не заходили ли они в бухту Варнека, когда двигались на восток. Оказалось, что заходили, стояли там в ожидании ледоколов. Лед в Ю-шаре и Карских Воротах набило ветром по самую завязку. Коллега навестил кладбище Варнека. С моей легкой руки на это кладбище моряки совершают экскурсии, когда торчат на Вайгаче. Кладбище растет не шибко. Пополнилось только ненкой, замерзшей на Ледяном берегу под Бахусом, да ненцем, сгоревшим в собственном доме по-трезвому.
Когда я слушал про Арктику на рейде Дакара, мне так и мерещился за бортом таинственный шепот вайгачевских ненцев: «Пирта есть? Есть пирта?»
Слова «Амбарчик», «Ю-шар», «мыс Дежнева» вздымали из жизненной дали лохмотья воспоминаний, муть ассоциаций, отработанные настроения.
Но я молчал о них. Штурман с «Ладогалеса» был моложе меня и многого не понял бы, начни я вспоминать при нем далекую правду.
Ничто за мой век так не изменилось по своему духу, как Арктика. Ее одомашнили, как овцу или барана. Укротили, как клодтовских коней. Опошлили, как львов Юсуповского дворца в Крыму.
Арктика была огромной. Теперь она сжалась и продолжает сжиматься, как шагреневая кожа.
Раньше в огромной Арктике все знали друг друга, как жители одной деревеньки.
Семейное чувство, арктическое братство было знакомо даже сезонникам-грузчикам в полярных портах.
Не только Кренкеля знали все, но и Кренкель знал всех.
Казалось, люди плывут или летят не на разных корабликах и самолетиках, а на одном, форштевень которого – мыс Дежнева, корма – остров Вайгач, бухта Варнека, мыс Болванский Нос.
Всегда хвастаюсь северным и арктическим прошлым.
Однажды в Польше, в порту Гданьск, я попал на банкет в честь великого польского праздника. На банкете оказались две пани, дочь и мама, прекраснее которых я не видел даже на далеком острове Маврикий. Я ухаживал, используя опыт Хлестакова и Милого друга, то есть и за той, и за другой. Обихаживая полячек, я заострил язык до змеиного жала. И танцевал все танцы, не умея танцевать ни одного. Ни черта не помогало растопить лед в сердцах панночек. И тогда я вспомнил Арктику. Я сообщил дочке, что, если она выйдет за меня замуж, я увезу ее на Северный полюс. Эта пошлятина тоже не сработала. Тогда я поместил на полюсе звероводческую ферму. На ферме я был заведующим. Там мы разводили белых медведей, чтобы предохранить зверей от вредного влияния окружающей среды в век НТР. Белые медведи были ручные. В дни великих праздников мы повязывали белым медведям черные форменные галстуки...
Здесь младшая панночка не выдержала и рухнула в мои объятия. И мать повисла у меня на шее. Они обе ради меня готовы были на все. От такой победы моя голова закружилась. И я уронил ее, голову, в клубничное мороженое, в котором и заснул. И снилась мне, естественно, Арктика, айсберги и белые медведи. И все это правда. И я получил воспаление лобных пазух. И не записал даже адреса красавиц...
Эту байку я рассказал вахтенному штурману «Ладогалеса» под вой трехглазых хоботовых – у цикад три глаза, и принадлежат они к этому слоновому отряду.
Примечание.
Из письма читательницы Марины Константиновны Асатур: «Во-первых, у цикад глаз: 2 больших и 3 маленьких, и называются они равнокрылые хоботные, а не хоботовые. Во-вторых, Вы почему-то упорно и многократно называете их жуками. Это все равно что кролика назвать тигром. Называйте их как угодно – букашками, козявками, мерзкими тварями, но только не жуками, ибо подобное несоответствие острым ножом будет всегда вонзаться в сердце любого энтомолога, а их развелось довольно много. Когда Вы описываете груды гибнущих цикад, у меня от жадности глаза и зубы разгорелись. Как они нам нужны на занятиях, и как мало у нас их осталось! А тут столько добра пропало! Еще. В рассказе „В тылу“ у Вас „гундосят жужелицы“. Жужелицы не могут гундосить. Это – жуки, ведущие сумеречный и ночной образ жизни и являющиеся активнейшими хищниками. Как всякие порядочные ночные разбойники, работают они совершенно бесшумно. А стрекотали у Вас в Средней Азии, вероятно, или саранчовые, или кузнечики, или сверчки, или все те же цикады...»