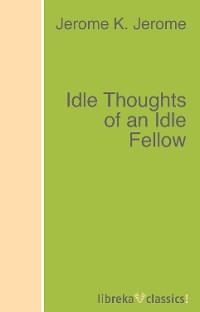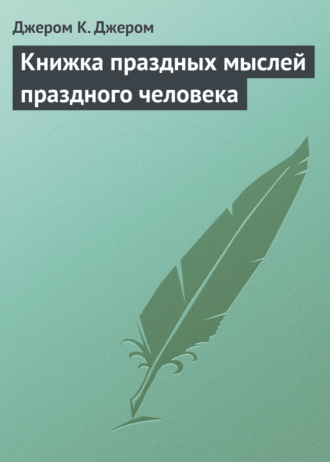 полная версия
полная версияКнижка праздных мыслей праздного человека
Ждете ответа.
– Что вы говорите? – раздается из трубки. – Я вас не понимаю.
– Говорю, что звонил битый час, но никакого отклика не получал. Буду жаловаться! – с еще большим напряжением кричите вы.
– Опять ничего не понимаю… Не стойте так близко к приемнику… Так ничего не слыхать… Какой вам номер?
– Не в этом дело… Я спрашиваю вас: почему мне так долго не отвечали на мои усиленные звонки?
– Как?.. Восемьсот?.. Ну, а далее?
Вы задыхаетесь от бессильной ярости. Вам хотелось бы наговорить таких вещей, от которых обязательно перегорел бы от стыда провод, и вы чувствуете большое искушение изломать всю эту телефонную музыку на мелкие кусочки. Но еще не совсем подавленная в вашем взбудораженном мозгу искорка рассудка подсказывает вам, что это было бы чересчур уж по-варварски, и вы, овладев собою, сквозь стиснутые зубы, но как можно отчетливее просите соединить вас с номером четыре – пять – шесть – семь.
– Четыре – девять – семь – шесть? – переспрашивают вас.
– Да нет же! Четыре – пять – шесть – семь, – повторяете вы.
– Как вы говорите: семь – шесть или шесть – семь?
– Семь – шесть! Семь – шесть! – кричите вы, потом спохватываетесь и поправляетесь: – Виноват! Мне нужно номер четыре – пять – шесть – семь, а не семь – шесть… Совсем голову потерял с вами…
– Может быть, вы опять что-нибудь напутали? – несется в ответ. – Так нельзя… Я не могу целое утро заниматься с одним только абонентом…
Вы смотрите в список и по нему уверенным голосом повторяете номер. Наконец вам сообщается, что вы соединены с тем номером, и вы снова ждете…
Много бывает смешных положений, но самым смешным кажется то, когда серьезный и с особенно развитым сознанием своего достоинства человек стоит где-то в углу, вытягиваясь на цыпочки, держит около уха прибор и напряженно прислушивается.
Спина болит, голова болит и, кажется, самые волосы болят. Вы слышите, как за вами отворяется дверь и кто-то входит в комнату, но не можете повернуть голову, чтобы взглянуть, кто это. С досады вы пускаете в воздух ругательство. Дверь тут же захлопывается и слышатся удаляющиеся легкие шаги. Вы догадываетесь, что это была ваша жена, с которою вы привыкли завтракать всегда в двенадцать часов, и она приходила узнать, когда вы наконец придете. Но как раз в это время вы вздумали связаться с дьявольской выдумкой, и теперь, наверное, уж половина первого.
– Кончили вы наконец свои переговоры? – кричат вам с центральной станции, предварительно дав короткий звонок.
– Кончил?! – с горечью отзываетесь вы. – Еще и не начинал: мне еще не ответили…
– Так звоните еще… Что даром теряете время?
Вы с ожесточением звоните вновь по номеру четыре – пять – шесть – семь. Через минуту вам отвечают оттуда.
– Кто там? – слабо доносится до вас.
– Четыре – пять – шесть – семь? – спрашиваете вы голосом, перехваченным от радостного волнения.
– Что такое?
– Вы – номер четыре – пять – шесть – семь, мистер Вильямсон?
– А вы кто?
– Я – восемь – один – девять, Джонс…
– Бонс?
– Джонс! Джонс!.. А вы – четыре – пять – шесть – семь?
– Алло… да, я – четыре – пять – шесть – семь… Что нужно?
– Мистер Вильямсон дома?
– Чего я хочу?.. Да кто же вы?
– Я Джонс… Дома ли мистер Вильямсон?
– Кто?
– Вильямсон… Виль-ям-сон!
– Чей вы сын? Не слышу! Говорите яснее!
С огромным трудом, призвав на помощь все свое терпение и самообладание вам в конце концов посчастливилось заставить вашего собеседника проникнуться той истиной, что вам нужно знать, дома ли в настоящий момент мистер Вильямсон.
– Дома все утро, – кажется, слышите наконец вы.
Вздохнув с облегчением, вы торопливо накидываете пальто, нахлобучиваете шляпу и бежите в контору мистера Вильямсона, где и заявляете, что пришли с ним повидаться.
– Очень жаль, сэр, его нет дома, – вежливо отвечают вам.
– Как нет дома? Не вы ли только что говорили мне в телефон, что он все утро дома?
– Вы ошиблись, сэр, я говорил вам, что его все утро нет дома.
Вы как оплеванный возвращаетесь к себе домой и смотрите на свой телефон. Трубка спокойно, как ни в чем не бывало, висит на своем месте. У вас опять является почти непреодолимое желание уничтожить все это адское приспособление, но вас останавливает соображение, что, во-первых, опасно схватываться с этими электрическими выдумками, а во-вторых, могут возникнуть и неприятности с обществом этой дьявольщины; поэтому вы, махнув рукой и дав себе слово как можно реже пользоваться такими неудобствами нашей цивилизации, спешите загладить свою невольную вину перед женой.
Да, но ведь телефон, как и палка, о двух концах. Своим концом вы можете и не пользоваться, но тот, другой, теряющийся где-то в пространстве, уж наверное не оставит вас в покое. Предположим, вы углублены в важное дело или у вас разошлись нервы и вам нужен абсолютный покой, о чем вами и сообщено всем вашим домашним, которые поэтому за три комнаты от вас крадутся на цыпочках и говорят шепотом. Вы сидите в своем кресле и углублены или в лежащие перед вами бумаги или в приятную дремоту. И вдруг в углу начинает трещать звонок телефона. Вы машинально вскакиваете с места и растерянно оглядываетесь в недоумении: выстрелили в вас или подбросили вам бомбу? Потом, поняв наконец в чем дело, вы снова опускаетесь на место в надежде, что если вы не ответите, то с того конца отстанут. Но не тут-то было! Звонок с десятисекундными промежутками продолжает неистово трещать. Вы затыкаете себе уши, но и это не помогает. Тогда вы решаете, что лучше уж ответить и таким путем отделаться от этой пытки. Вы подходите к своему истязателю и слабым голосом спрашиваете:
– Алло! Кто там и что нужно?
Вместо ответа слышится лишь смутный гул, среди которого немного спустя начинают пробиваться два резких голоса, переругивающихся между собою. Телефон приспособлен, очевидно, главным образом, для передачи ругани. При мирных переговорах голос едва слышен, а когда двое ругаются, то звуки ясно разносятся по всем проводам Лондона.
Когда ругань окончилась и в трубе опять слышится один смутный гул, точно по ней передвигаются целые отряды насекомых, вы снова даете звонок. Ответа нет. Вы начинаете иронизировать в приемник, выражая этим свое раздраженное состояние. Наконец по истечении по крайней мере четверти часа вас спрашивают:
– Алло! Вы здесь?
– Здесь. Что угодно?
– А вам что угодно? – доносится обратный вопрос.
– Мне? Да ровно ничего!
– Так зачем же вы держите занятым провод? Это ведь не игрушка! – раздается негодующий возглас.
Вы догадываетесь, что с вами говорит телефонная барышня, и с негодованием спешите разъяснить, что кто-то звонил к вам и вы хотели откликнуться.
– Кто же вам звонил? – спрашивает барышня.
– Не знаю…
– Очень жаль! Я тоже не знаю и не могу вам помочь.
Вы с сердцем вешаете трубку на место и возвращаетесь к своему креслу. Но едва вы успели сесть, как звонок опять задребезжал. Вне себя вы снова вскакиваете, летите к телефону, срываете трубку и осведомляетесь, какой там черт звонит и какого черта нужно.
– Не кричите так! – несется в трубку. – Мы не можем ничего разобрать… Что вам нужно?
– Мне ровно ничего не нужно, а что нужно вам – не знаю… Зачем вы звоните ко мне и потом не отвечаете, когда я подхожу?.. Оставьте меня, пожалуйста, в покое!
– Мы не можем достать гонконгских по семьдесят четыре, – сообщают вам.
– Да? Ну а мне-то какое до этого дело? – огрызаетесь вы.
– Может быть, вы возьмете зулусских?
– Зулусских? Каких зулусских? На кой черт мне они! – злитесь вы.
– Их можно получить по семьдесят три с половиной. Хотите?
– Совсем не хочу… А вы лучше скажите, что вам, собственно, нужно от меня? За кого вы принимаете меня?
– Гонконгских можно достать только по семьдесят четыре… Впрочем, позвольте, прошу подождать полминутки.
Голос умолкает. Полминутки проходит. Потом снова раздается:
– Вы здесь еще?
– Здесь. Но, очевидно, я не тот, кто вам нужен, – отвечаете вы.
– Мы можем достать вам гонконгских по семьдесят три и три восьмых…
– Отстаньте вы с вашими гонконгскими! Говорю вам: я не тот, кто вам нужен.
– Что же вам нужно?
– Да только одно: чтобы вы отвязались наконец от меня. Я с вами не имею никакого дела… Сколько же мне еще раз повторять вам это?
– Да кто вы такой?
– Восемь – один – девять… Джонс.
– А не один – девять – восемь?
– Да нет же, нет, говорят вам!
– Ах, простите, пожалуйста!..
Трещит отбой, и вы, отирая пот с лица, чуть не бросаете трубку об стену и спешите выпить стакан воды.
Но вернемся к моему финансисту, о котором я начал было говорить, да чуть было не забыл, увлекшись желанием хорошенько отчитать телефон, этого виновника стольких лишних неприятностей в нашей и без того не особенно приятной жизни.
Как-то раз после обеда я сидел с этим финансистом в его великолепно убранной столовой. Мы закурили сигары. Слуги удалились.
– Вот эти сигары, – начал мой хозяин, – приобретаются мною тысячами и, несмотря на это, обходятся мне по пяти шиллингов за штуку.
– Зато они и хороши, – заметил я.
– Может быть, для вас, – чуть не свирепо буркнул он, сплевывая в сторону. – Вы в какую цену привыкли курить сигары?
Мы были давно уже знакомы. Когда я в первый раз познакомился с ним, его контора ютилась в крохотной полутемной комнатке на третьем этаже одного грязного дома, в тесном, смрадном переулке, близ Стрэнда, теперь исчезнувшем. Сойдясь поближе, мы ежедневно вместе обедали в плохоньком ресторанчике на в Грейт-Портленд-стрит, тратя на это по шиллингу и девяти пенсов. Ввиду такой близости его вопрос не был обиден для меня.
– В последние годы в три пенса, – ответил я. – Сотнями немного дешевле: два пенса и три фартинга.
– Ну да, – подхватил мой собеседник, – и эти дешевенькие корешки доставляют вам ровно столько же удовольствия, сколько мне мои пятишиллинговые. Следовательно, я с каждой выкуриваемой сигарой пускаю на воздух четыре шиллинга и девять пенсов с лишком. Я плачу своему повару двести фунтов в год, между тем мой тонкий обед удовлетворяет меня нисколько не больше, чем в то время, когда он стоил мне всего четыре шиллинга, включая и четверть бутылки кьянти. Или почему, например, мне необходимо ехать в контору и оттуда домой в экипаже, запряженном парой рысаков, а не в омнибусе, который останавливается в нескольких шагах от ее дверей? Когда мне было не по карману ездить даже в омнибусе и оба конца приходилось ежедневно совершать пешком, я был гораздо здоровее. Я теперь раздражаюсь при одной мысли о том, сколько мне нужно было трудиться, чтобы скопить богатство, в котором, однако, не вижу ничего хорошего для себя. Если бы мой обед, который теперь мне стоит в четыреста раз дороже прежнего, во столько же раз доставлял мне удовольствие, то еще был бы смысл в этом, а то что в нем для меня?
Он никогда раньше так не рассуждал, и я с невольным любопытством всматривался в него. Все более и более возбуждаясь, он встал и принялся шагать из угла в угол.
– Отчего я не вложу свои капиталы в двухсполовинойпроцентную ренту? – продолжал он. – Ведь я все-таки буду иметь самое меньшее пять тысяч в год. Ну скажите, пожалуйста, на кой черт нужно человеку больше? И представьте: я чуть не каждое утро твержу себе, что я так и сделаю, однако не делаю. Почему, как вы думаете?
– Не знаю, – ответил я. – Полагаю, вы сами лучше кого другого можете ответить на этот вопрос.
– Да вот подите, совсем не могу! – чуть не рявкнул он, останавливаясь передо мною и колотя себя в грудь. – Не могу, да и только! И я серьезно думал, что вы решите мне этот проклятый вопрос. Ведь вы задались решением загадок, скрытых в человеческой натуре. Впрочем, будучи на моем месте, вы сами поступали бы точь-в-точь так же, как я. Свались вам завтра сто тысяч фунтиков, вы станете издавать большую газету или построите театр, вообще придумаете какую-нибудь глупость, чтобы поскорее ухлопать эти деньги и устроить себе мучение на семнадцать часов в сутки. Не правда ли?
Чувствуя правду его слов, я смущенно молчал, потому что действительно всегда мечтал о собственной газете и собственном театре.
– Да, – продолжал мой хозяин, немного помолчав, – непременно и вы сделали бы так. А если бы мы все работали только для добывания самого необходимого, то завтра же весь Сити мог бы закрыть свои лавочки. Ах, как хотелось бы мне знать, что именно лежит в основе того инстинкта, который толкает нас в денежную сутолоку как бы ради нашей собственной пользы? Что так крепко оседлывает и пришпоривает нас?
В это время вошел слуга и подал хозяину каблограмму от управляющего его австралийскими копями, и он поспешил с нею в свой кабинет, сделал мне знак остаться и не обижаться на его отлучку. Однако когда он вернулся, то выглядел таким расстроенным, что я нашел нужным лучше проститься с ним и уйти.
По дороге домой я перебирал в уме его слова. К чему, в самом деле, этот бесконечный труд? К чему мы каждое утро встаем, умываемся и одеваемся, чтобы вечером снова раздеться на ночь и ложиться в постель? Почему мы зарабатываем деньги на пищу и питаемся для того, чтобы опять работать? Почему, или, вернее, зачем мы живем, имея в виду одну могилу? Зачем выпускаем на свет детей, когда знаем, что и им в конце концов предстоит тоже умереть и быть зарытыми в землю?
На что, в сущности, вся наша борьба, все наши страстные желания, стремления и домогательства? Какое будет иметь значение для будущих веков, чей флаг шире развевался на земле и на морях? А между тем ради этого мы проливали свою кровь. В тот день, когда вновь надвинутся на землю ледники и начнут сковывать всю ее жизнь, кого спасет знание того, кто первый вступил на один из полюсов? Поколением за поколениями устилаем мы землю своими костями; смерть стоит у нас за плечами с самого момента нашего рождения, и ей совершенно безразлично, любим мы или ненавидим.
Но пока кровь бежит еще по нашим жилам, мы надрываем себе сердце и мозг в погоне за призрачными надеждами, которые тускнеют по мере того, как мы думаем, что они осуществляются.
Цветок выбивается из земли, вытягивает из нее нужные ему соки, каждый вечер складывает свои лепестки и спит. Есть и у него нечто вроде периода любви, когда его тянет смешать свою цветочную пыль с пылью другого цветка. После этого он цветет еще ярче и приносит плод, который разносится птицами с места на место. Времена года проносятся над ним, нося то солнечное сияние, то дождь и бурю. Наконец цветок вянет, так и не узнав во время своей короткой жизни цели своего недолгого существования; но до последнего мгновения он был уверен, что не он создан для сада, а сад для него. Коралловое насекомое мечтает в своей крохотной душе, вероятно, изображаемой его крохотным желудком, о своем домишке и о пище. И благодаря этой мечте оно трудится и борется на дне глубоких темных вод, не имея и самого слабого понятия о тех материках, которые создает.
Но для чего все это? Наука нам говорит, что тысячелетиями неустанного труда и борьбы мы совершенствуем расу. Из эфира через обезьяну произошел человек, труд которого должен послужить на то, чтобы уничтожить в человеке животную часть и путем всяческих усилий и страданий достичь ангельского состояния и войти в царство Божие.
Но, опять-таки, для чего все это? Почему это необходимо проделывать в течение целых веков? Почему человек сразу не родился тем всесовершеннейшим существом, которым предназначен быть? Зачем весь ужас и все страдание, предшествовавшие моему появлению на свет? Для чего мое я должно снова появиться как потомок моего настоящего я? Зачем это мое настоящее я должно мучиться, бороться и погибнуть ради моего будущего я, которого сейчас я даже и не знаю? Зачем Создатель, для которого все возможно, нашел нужным заставить человека вырабатываться с таким тяжелым трудом для клеточки?..
Если наше будущее относится к другой сфере, то для чего нам нужна эта планета? Или мы в самом деле, как утверждают некоторые, создаем нечто такое великое, обширное, чего не в состоянии охватить нашим еще слишком несовершенным зрением, – как коралловое насекомое не может охватить того материка, который создает? Или же, быть может, наши страсти и желания – для нас только шпоры, чтобы мы трудились для чего-то необходимого и важного для нас самих в далеком будущем?
Будем, однако, надеяться, что наша окончательная цель еще впереди; оставшееся же у нас позади ровно ничего не стоит, – по крайней мере, все то, что обрисовывается нам сквозь мрак прошедших веков.
В самом деле, что было там?
Со страшным трудом воздвигнутые цивилизации, которые часто одним ударом были уничтожены почти бесследно; верования, ради которых люди страдали и умирали и которые потом оказались ложными; чудное греческое искусство, разрушенное варварами; мечты о братстве, потопленные в крови…
Что же осталось нам, кроме надежды, что, быть может, наш труд сам по себе был целью, которой мы все еще не понимаем. Ведь мы, как дети, все еще продолжаем спрашивать: «К чему эти скучные уроки? На что они нам?» Но настанет день, когда дитя, превратившись во взрослого, начинает понимать, зачем его заставляли долбить «скучные» уроки, и тогда для него все осмысливается. Но этот день может наступить только для того, кто вполне уже окончил школу и вышел в открытое житейское море. И вот когда сделаемся наконец взрослыми и мы, то, быть может, тогда и нам откроются очи на смысл нашего существования.
V
О заботах, о женщинах и о бережном обхождении с ними
Однажды, разговаривая с одной дамой о медовом месяце, я спросил у нее:
– Вы за какой медовый месяц стоите, за короткий или за длинный? За то, чтобы он действительно тянулся целый месяц, или только несколько дней?
Дама призадумалась, причем, кажется, скорее оглядывалась назад, чем смотрела вперед.
– Я стою за то, чтобы медовый месяц был как можно длиннее, – наконец ответила она. – Во всяком случае, не менее традиционных четырех недель.
– А между тем, – продолжал я, – современность склонна по возможности сокращать этот срок.
– О да, – с горькой улыбкой подхватила дама, – наша современность склонна отлынивать от многого хорошего. Что же касается меня, то я думаю: зачем сокращать то, что потом уж никогда не вернется, и бывает, быть может, единственным украшением нашей тусклой и нудной жизни?
Я хотел продолжать этот разговор, но в это время явились другие гости, и нам пришлось заговорить о погоде и тому подобных интересных вещах.
Женщины слишком серьезно смотрят на жизнь, которая сама по себе очень серьезная штука, поэтому лучше бы смотреть на нее полегче, чтобы хоть этим смягчить ее суровость.
Маленький Джек и маленькая Джил упали с пригорка, ушибли себе носы и коленки, пролили с трудом добытую воду и заревели. Мы относимся к этому вполне по-философски и говорим малышам:
– Не ревите, это глупо. Будьте поумнее. Ушиблись немножко – невелика беда. Маленькие мальчики и маленькие девочки должны привыкать к этому. Вставайте скорее на ноги и бегите опять за водой. Да будьте поосторожнее, чтобы во второй раз не упасть и не пролить воду.
Джек и Джил поднимаются, протирают грязными кулачками заплаканные глаза, грустно глядят на свои маленькие ушибленные в кровь коленки и плетутся назад за водой, а мы добродушно посмеиваемся над ними:
– Бедняжки! Как они орут при каждом пустяке! Можно подумать, что они расшиблись насмерть, а они только слегка оцарапались и вымочились. Ах как мало у детей терпения!
Но когда мы, взрослый Джек с седеющими усами и взрослая Джил с «гусиными лапками» вокруг глаз, упадем и прольем свое ведро, – о, какая тогда разыгрывается трагедия! Погасите звезды, затемните солнце, приостановите действие законов природы! Подумайте только: мистер Джек и миссис Джил спускались с пригорка и вдруг споткнулись о камень (наверное, подложенный им под ноги злыми силами вселенной), причем ушибли себе простоватые головки! Им бо-бо, и они искренне удивлены, как это мир еще стоит в виду такого неслыханного несчастья.
Не впадайте в отчаяние из-за такого пустяка, мистер Джек и миссис Джил. Вы пролили свое счастье; ну что ж, ободритесь скорее и старайтесь возобновить потерянное, а потом несите его осторожнее, чтобы еще раз не споткнуться и не пролить его. А почему вы поскользнулись и упали? Наверное, потому, что не смотрели себе под ноги.
Наша жизнь состоит из вздоха и смеха, из привета и прощания. Так стоит ли все это, кратковременное, мимолетное, таких волнений? Ободритесь, товарищи! Поход не может быть полон одними чувствительностями; должны быть и труды переходов, и битвы. Бывают приятные стоянки между виноградниками, веселые ночи вокруг пылающих костров. Когда мы снимаемся с этих стоянок, белые ручки машут нам на прощание, блестящие глазки заволакиваются слезами сожаления о нас. Но неужели из-за этого вы хотите убежать от звуков боевой музыки? Но неужели хотите быть трусами? Нет, товарищи, бодрее вперед! Некоторым достанется награда, другим – наказание, а всем нам, кому раньше, кому немного позднее, шесть футов матери-земли. Ободритесь же, товарищи!
Есть нечто среднее между самодовольным скользящим вилянием по жизненному пути аллигатора и постоянно трепетными шагами чувствительной лани, готовой умереть чуть не от каждого дуновения встречного ветерка. Для того чтобы бодро нести свою тяжесть, мы должны быть сильными и мужественными.
Мы изменились к худшему, плачем и ноем при малейшей боли. В прежнее время люди ежеминутно подвергались настоящим тревогам, настоящим опасностям, и у них не было времени кричать и плакать. Бедствия и смерть стояли у каждой двери, и люди смотрели на них с пренебрежением. Мы же в своих крепко защищенных домах постоянно ноем и смотрим на едва заметную царапинку как на глубокую рану. Простая головная боль кажется нам агонией, а нервная сердечная – трагедией. Те душевные бури, которые были вызваны в Гамлете убитым отцом, утонувшей возлюбленной, обесчещенной матерью, появлением призрака отца и убитым первым министром, – нынешний писака производит гримасами обиженной хористки или временным падением курса на бирже. Чем легче для нас жизнь, тем требовательнее мы к ней относимся и тем сильнее принимаем к сердцу всякий пустяк, лежащий нам поперек дороги. Гребцы Улисса с одинаковой веселостью встречали и грозу и солнечное сияние, а мы, современные мореплаватели, сделались гораздо чувствительнее: солнечное сияние палит нас, дождь вызывает в нас озноб, и мы постоянно стонем от жалости к себе.
Но вернемся к вопросу о медовом месяце. Один мой знакомый, человек рассудительный, с умом философского склада, высказался по этому поводу следующим образом:
– Дорогой мой, если вы вздумаете жениться, то старайтесь устроить так, чтобы ваш медовый месяц тянулся не больше недели, и вдобавок был как можно шумнее. Венчайтесь в субботу утром и пуститесь в маленькую поездку, конечно, прямо из-за стола после завтрака с шампанским, с поздравлениями и прочими традиционными церемониями. Постарайтесь попасть на первый поезд, отходящий на Континент. Когда попадете в Париж, сведите свою жену на Эйфелеву башню. Завтракайте в Фонтенбло, а обедайте в Мэзон-Доре. Вечером покажите ей Мулен-Руж. Это будет в воскресенье. С ночным поездом отправляйтесь в Люцерн. В понедельник и вторник посетите Швейцарию, а в четверг поезжайте в Рим, ознакомившись по пути с итальянскими озерами. В пятницу неситесь в Марсель, а оттуда юркните в Монте-Карло… Пусть жена позабавится немножко у зеленого стола. Утром, в субботу, махните в Испанию, пересеките Пиренеи на мулах. В воскресенье отдохните в Бордо. В понедельник вернитесь в Париж, кстати, это день парижской Оперы. Во вторник вечером вы будете уже дома и очень обрадуетесь этому. Не давайте свой жене времени критиковать вас, пока она еще не успела освоиться с вами. Без щита ни один мужчина не может выдержать пытливых взглядов молодой женщины. Так называемый медовый месяц играет роль брачного микроскопа. Старайтесь загородить себя под этим прибором множеством посторонних предметов, чтобы из-за них наблюдательница не могла толком вас разглядеть. Поэтому займите ее чем только можете: заставьте ее ловить поезда, дайте ей побольше вещей, чтобы она все время возилась с ними. Сами занимайте в вагонах всю скамью, а жене предоставляйте небольшое местечко в углу. Пусть она слушает мужскую ругань, пусть принюхивается к табаку. Вообще заставьте ее поближе приглядываться к другим мужчинам; тогда она не так будет поражена, если и заметит ваши недостатки. Один прекрасный молодой человек из числа моих добрых знакомых испортил себе всю жизнь благодаря спокойно проведенному медовому месяцу. Он с женою удалился ровно на четыре недели в медвежью глушь, среди чудной природы, где никто их не беспокоил и ничего не случалось, кроме смены дня и ночи. Вот там-то жена к концу месяца и разобрала своего муженька, как говорится, по ниточке. Когда он зевал (зевал же он, наверное, довольно часто, в особенности после третьей недели), жена разбирала форму его разинутого рта, а когда он клал ноги на каминную решетку – строила свои комбинации насчет этих ног. За столом, не чувствуя сама не только голода, но даже и простого аппетита (ведь ей нечем было вызывать его), она занималась тем, что смотрела, как ест муж; а ночью, лишенная сна (ведь ей не было от чего уставать), она лежала и прислушивалась к храпу мужа. Первое время они целые дни болтали всякие глупости; но так как это теперь можно было делать беспрепятственно, то им это вскоре же надоело; говорить же о чем-нибудь дельном они не могли, потому что не было для этого материала. Тогда они стали сидеть по целым часам молча, с изумлением глядя друг на друга, и не знали, чем занять себя. Как-то раз муж чем-то раздражился и произнес легкое ругательство. Будь это на шумной железнодорожной платформе или в другом многолюдном публичном месте, жена только сказала бы, а может быть, даже только подумала бы: «Ого!» Но в той волшебной тишине, где каждый звук слышится гораздо яснее, восклицание мужа подействовало на молодую женщину до такой степени удручающе, что она проплакала всю остальную часть дня, весь вечер и всю ночь. Поэтому, мой друг, повторяю: старайтесь, чтобы ваша молодая жена с первого же дня все время была занята чем угодно, лишь бы не вами.