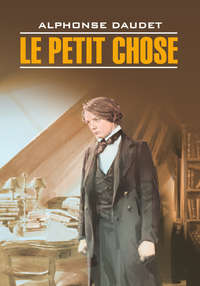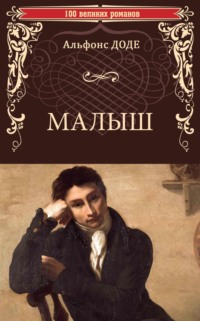Полная версия
Сафо
Супруги нравились Фанни. Она хотела бы с ними познакомиться. Иногда соседка обменивалась с ней, через потемневшее железо перил, улыбкой счастливых и влюбленных женщин; но мужчины, как всегда, были более сдержаны друг с другом, и не разговаривали.
Однажды Жан шел после полудня, направляясь от набережной д'Орсэ, как вдруг услышал, что кто-то окликнул его по имени, на углу улицы Рояль. День был чудесный, было ясно и тепло, и Париж расцветал на этом повороте бульвара, который, в минуту заката, во время катанья в Булонском лесу, не имеет себе равного во всем мире.
– Сядьте здесь, прекрасный юноша, выпейте чего-нибудь… Поглядеть на вас и то праздник!
Его охватили две огромные руки и усадили под навесом кафе, захватившего тротуар тремя рядами столиков. Он не противился, польщенный тем, что вокруг него толпа провинциалов, в полосатых пиджаках и круглых шляпах, с любопытством шептала имя Каудаля.
Скульптор, сидел перед стаканом абсента так шедшим к его военному росту и офицерскому значку, бок-о-бок с инженером Дешелеттом, приехавшим накануне, желтым и загорелым по-прежнему, с выдающимися скулами, и маленькими добрыми глазками, с жадными ноздрями, вдыхавшими аромат Парижа. Едва молодой человек сел, Каудаль, указывая на него с комическим ужасом, сказал:
– До чего он красив, животное!.. Только подумаешь, что я был так же молод, что у меня были такие же кудри!.. Ах, молодость, молодость!..
– Все по-прежнему? – сказал Дешелетт, улыбаясь выходке друга.
– Милый мой, не смейтесь… Все, что я имею, все, что я из себя представляю – медали, кресты, Академию, Институт – все отдал бы я за эти волосы, за этот загорелый цвет лица… – Затем, обратившись с обычной резкостью к Госсэну, спросил:
– А где же Сафо, что вы с нею сделали?.. Отчего её не видно?
Жак взглянул на него широко раскрытыми глазами, не понимая.
– Разве вы уже разошлись с нею? – и, глядя на остолбеневшего Жана, нетерпеливо прибавил: – ну, Сафо… Фанни Легран… помните, Виль-д'Аврэ…
– О, все это давно кончено…
Как выговорил он эту ложь? Вследствие какого-то стыда, какой-то неловкости при этом имени, данном его любовнице; быть может, стесняясь говорить о ней с другими мужчинами, а, быть может, из желания узнать о ней вещи, которые ему без этого не рассказали бы.
– А-а… Сафо?.. Разве она еще живет? – рассеянно, спросил Дешелетт совершенно опьяненный счастьем видеть вновь ступени Мадлены, цветочный рынок, длинный ряд бульваров между двумя рядами зеленых букетов.
– Как! вы не помните ее у себя в прошлом году?.. Она была великолепна в одежде египтянки… А нынешней осенью, утром, я застал ее за завтраком с этим красивым юношей у Ланглуа; вы сказали бы, что это новобрачные, всего две недели как повенчавшиеся.
– Сколько ей может быть лет? С тех пор, как мы ее знаем…
Каудаль поднял голову, припоминая: – Сколько лет?.. Сколько?.. В пятьдесят третьем году, когда она позировала мне для моей статуи, ей было семнадцать; теперь семьдесят третий год. Вот и считайте! – вдруг глаза его заблистали: – Ах! если бы вы видели ее двадцать лет тому назад!.. Длинная тонкая шея, резко очерченные губы, высокий лоб… руки, плечи, несколько худые, но это так шло к знойному темпераменту Сафо!.. А какая женщина, какая любовница!.. Чего только не было в этом теле, созданном для наслаждения, какого только огня нельзя было высечь из этого кремня, из этого дивного инструмента, в котором не было ни одного недостатка!.. «Полная лира»!.. как говорил о ней Гурнери.
Жан, побледнев, спросил:
– Разве и он также был её любовником?..
– Гурнери?.. Я думаю! И это причинило мне много страданий… Четыре года жили мы вместе, как муж и жена, четыре года я берег ее, делал все, чтобы удовлетворить все её капризы… Уроки пения, уроки фортепиано, уроки верховой езды, чего-чего только не было! А когда я ее отполировал, отшлифовал, как драгоценный камень, поднятый мною в луже однажды ночью, по выходе с бала Рагаш, этот франт, этот рифмоплет отнял ее у меня, увел из-за того самого дружеского стола, за которым он приходил обедать по воскресеньям.
Он глубоко вздохнул, чтобы прогнать старую любовную досаду, дрожавшую в его голосе, потом сказал более спокойно:
– Впрочем, его вероломство не принесло ему пользы… Три года, прожитые ими вместе, были настоящим адом. Этот поэт, с вкрадчивым голосом и манерами, был капризен, зол, какой-то маньяк! Надо было видеть, что между ними происходило!.. Бывало придешь к ним, у неё завязан глаз, у него лицо исцарапано ногтями… Но самое лучшее – когда он собрался ее покинуть! Она липла к нему, как смола, следила за ним, врывалась в его квартиру, ожидала его, лежа на коврике у его дверей. Однажды ночью, в разгар зимы, она простояла пять часов кряду внизу, у Ла-Фарси, куда они поднялись целой толпою… Жаль было смотреть на нее!.. Но элегический поэт был невозмутим до той минуты, когда, чтобы избавиться от нее, он призвал полицию. Нечего сказать, благородный человек!.. И в заключение, в виде благодарности этой красавице, отдавшей ему свою молодость, свой ум, свое тело, он вылил ей на голову целый том стихов, полных ненависти, грязи, проклятий, жалоб, «Книгу Любви», – его лучшую книгу!..
Сидя неподвижно, словно застыв, Госсэн слушал, потягивая сквозь длинную соломинку, крошечными глотками, поданное ему мороженое питье. Ему казалось, что в стакан подлили яду, леденившего ему кровь в жилах.
Он дрожал, несмотря на чудную погоду, и, как сквозь сон, смутно видел скользившие взад и вперед тени, бочку для поливки улиц остановившуюся перед Мадлен, и мелькание карет, неслышно катившихся по мягкой земле словно по вате. Ни уличного шума, ничего не существовало для него, кроме того, что говорилось за этим столом. Теперь говорил Дешелетт – это он вливал теперь яд…
– Что за ужасная вещь эти разрывы… – Его спокойный, насмешливый голос делался нежным, бесконечно участливым. – Люди прожили вместе годы, спали, прижавшись друг к другу, вместе мечтали, вместе работали! Все высказали, все отдали друг другу. Усвоили себе привычки, манеру держаться, говорить, даже черты любимого человека. Двое слились в одно… Одним словом то, что мы привыкли называть «collage»!.. Затем внезапно бросают друг друга, расходятся… Как это случается? Откуда является это мужество? Я никогда не мог бы… Да будь я обманут, оскорблен, запачкан грязью и осмеян, все таки если бы женщина заплакала и сказала мне: «останься», – я не ушел бы… Вот почему, когда я схожусь с женщиной, то всегда лишь на одну ночь… Пусть не будет завтрашнего дня… или тогда уже женитьба! Это по крайней мере, окончательно и благородно.
– Пусть не будет завтрашнего дня!.. Вам хорошо говорить! Есть, однако, женщины, которых нельзя брать на одну ночь… Например, эта женщина…
– Я и для неё не сделал исключения, – сказал Дешелетт, с ясной улыбкой, показавшейся несчастному любовнику отвратительной.
– Ну, так это потому, что вы не возбудили в ней любви, иначе… Эта женщина, когда любит, то так вцепляется… У неё есть пристрастие к семейному уюту… Только не везет ей во всех попытках этого рода. Она сходится с романистом Дежуа – он умирает… Она переходит к Эзано – он женится… Затем настает очередь красавца Фламана, гравера, бывшего натурщика – она всегда увлекалась талантом или красотой – и… вы наверное слыхали про это ужасное дело?..
– Про какое дело? – спросил Госсэн сдавленным голосом; и снова принялся сосать свою соломинку, слушая любовную драму, захватившую несколько лет тому назад весь Париж.
Гравер был беден и без ума от этой женщины; из боязни, что она его бросит, и для поддержания её роскошной жизни, он подделал банковые билеты. Уличенный тотчас, посаженный в тюрьму одновременно со своей любовницей, он был осужден к десятилетнему тюремному заключению, а ей были зачтены шесть месяцев предварительного заключения в Сен-Лазарской тюрьме, так как на суде была доказана её невиновность.
Каудаль напомнил Дешелетту, следившему в то время за процессом, как она была красива в маленьком тюремном чепчике, и как была мужественна, без тени слабости, как верна до конца своему возлюбленному… А её ответ этой старой туфле, председателю, а поцелуй, который она послала Фламану поверх жандармских треуголок, крича ему голосом, способным тронуть камни: «Не скучай, друг мой!.. Вернутся еще красные деньки, мы еще будем любить друг друга»!.. Тем не менее, это несколько отвратило ее от семейной жизни, бедняжку!
– С тех пор, пустившись в мир элегантных людей, она брала любовников на месяц, на неделю, и никогда больше не сходилась с художниками…Уж и боится же она их!.. Я, кажется, единственный, с которым она продолжала еще видеться… Время от времени она приходила в мою мастерскую выкурить папиросу… Потом прошли месяцы, и я ничего не слышал о ней до того самого дня, когда встретил ее за завтраком с этим красивым мальчиком, кушавшей виноград с ветки, которую он держал в зубах. Я подумал: вот и опять попалась моя Сафо!
Больше Жан не был в состоянии слушать. Ему казалось, что он умирает от того яда, который проглотил. После недавнего холода, теперь грудь сжигал ему огонь, и как раскаленное добела железо, охватывал его голову, в которой шумело и которая готова была треснуть. Он перешел через дорогу, пошатываясь среди колес экипажей. Кучера окликали его. Что нужно было этим болванам?
Проходя по рынку Мадлен, он был взволнован запахом гелиотропа, любимым запахом его любовницы. Он ускорил шаги, чтобы бежать от него, и в ярости, терзаемый бешенством, подумал вслух: «Моя любовница… Да, порядочная грязь!.. Сафо, Сафо! Подумать только, что я прожил целый год с ней!» Он гневно твердил её прозвище, припоминая, что встречал его в маленьких газетках, в числе других прозвищ легкомысленных женщин, в юмористическом Готском Альманахе любовной хроники: Сафо, Коро, Каро, Фрина, Жанна де Паутье, Тюлень…
Вся жизнь этой женщины, вместе с четырьмя буквами её отвратительного имени, грязным потоком проносилась перед его воображением. Мастерская Каудаля, ссоры с Гурнери, ночные дежурства у дверей притонов или на половике перед входом в квартиру поэта… Затем красавец-гравер, фальшивые деньги, суд… беленький тюремный чепчик, так шедший к ней, поцелуй, посланный подделывателю банковых билетов: «Не скучай, друг мой». Друг мой! То же название, то же ласкательное слово, которым она зовет и его! Какой стыд! А! он смоет с себя эту грязь!.. И все тот же запах гелиотропа, преследовавший его в сумерках того же бледно-лилового оттенка, как и эти цветочки.
Вдруг он заметил, что он все еще ходит по рынку, словно по пароходной палубе. Он пошел дальше, быстро добежал до улицы Амстердам, твердо решив выгнать из своего дома эту женщину, вышвырнуть ее на лестницу без всяких объяснений, крикнув ей вслед в виде оскорбления её прозвище. У двери он поколебался, раздумывая, и прошел несколько шагов дальше. Она будет кричать, рыдать, выкрикивать на весь дом весь запас уличных ругательств как там, на улице Аркад…
Написать? Да, лучше написать ей, дать ей отставку в четырех словах, как можно более суровых! Он вошел в английскую таверну, пустынную и мрачную при свете газа, присел к грязному столику, вблизи единственной посетительницы, девицы, с лицом мертвеца, пожиравшей копченую лососину, ничем не запивая ее. Он спросил кружку эля, но не дотронулся до неё и принялся за письмо. Но в голове его теснилось слишком много слов, обгонявших друг друга, а загустевшее, испорченное чернило меж тем набрасывало их на бумагу чудовищно медленно.
Он разорвал два-три начатых листка, собирался уйти, наконец, ничего не написав, как вдруг чей-то жадный, набитый рот спросил его: «Вы не пьете?… можно?..» Он сделал знак головою, означавший: можно. Девица набросилась на кружку, осушила ее залпом, обнаружив этим всю свою нищету, так как у несчастной было в кармане как раз сколько нужно, чтобы утолить голод, но не на что было купить немного пива. В нем проснулось сострадание, смирившее его гнев и обнажившее перед ним внезапно ужасы женской жизни; он стал судить с большей человечностью и снова стал обдумывать свое горе.
В конце концов, она ему не солгала; и если он ничего не знал о её жизни, то это оттого, что он никогда о ней и не спрашивал. В чем он упрекает ее?.. В том, что она сидела в тюрьме?.. Но коль скоро она была оправдана и вынесена почти на руках из зала суда?.. Так что же? То, что она имела любовников до него? Разве он не знал этого?.. Разве можно сердиться на нее за то, что её любовники известны, знамениты, что он мог встречаться с ними, говорить, любоваться их портретами на выставках магазинов? Неужели он вменит ей в преступление то, что она предпочитала именно таких людей?
В глубине его души поднималась скверная гордость, в которой он сам не хотел себе признаться, гордость тем, что он делил её любовь вместе с этими художниками, и тем, что и они находили ее прекрасной. В его годы мужчина никогда не уверен, не знает наверное. Любит женщину, любит любовь, но глаз и опыта не хватает, и молодой любовник, показывающий портрет своей любовницы, ищет одобрения, которое успокоило бы его. Фигура Сафо казалась ему выросшей, окруженной ореолом, с тех пор как он знал, что она воспета Гурнери и запечатлена Каудалем в бронзе и мраморе.
Но внезапно, снова охваченный яростью, он вскакивал со скамейки, на которую в раздумье сел, на внешнем бульваре, среди кричавших детей, сплетничавших работниц, в пыльный июньский вечер; и принимался снова в бешенстве ходить, говорить вслух… Красивая бронзовая статуя «Сафо»… рыночная вещь, имевшаяся повсюду, пошлая, как мотив шарманки, как самое слово «Сафо», которое, пережив века, загрязнило свою первоначальную поэзию нечистыми легендами, и из имени богини превратилось в название болезни… Боже! Как все это отвратительно!..
Попеременно, то успокаиваясь, то приходя в ярость, он шел вперед, отдаваясь приливу противоположных чувств и мыслей. На бульваре темнело, становилось пустынно. В горячем воздухе ощущалась какая-то приторность; он узнал ворота огромного кладбища, где в прошлом году, вместе с массой молодежи, он присутствовал при открытии бюста Каудаля, на могиле Дежуа – романиста Латинского квартала, автора Cenderinette. Дежуа, Каудаль! Странно звучали для него теперь эти имена. Какою лживой и мрачной казалась ему история подруги студента и её маленького хозяйства, когда он узнал печальную подкладку, услышал от Дешелетта ужасное прозвище, даваемое этим уличным бракам!
Весь этот мрак, сгустившийся еще благодаря соседству кладбища, пугал его. Он пошел назад, сталкиваясь с мастеровыми, молчаливо бродившими, как ночные тени, и с женщинами в грязных юбках у входа в притоны, в окнах которых рисовались, как в волшебном фонаре, проходившие и обнимавшиеся парочки… Который час?.. Он чувствовал себя разбитым, словно рекрут к концу перехода; и от ноющей боли, сосредоточившейся в ногах, у него осталась одна только усталость. Ах, если бы лечь, уснуть!.. Потом, проснувшись, он скажет женщине, холодно, без гнева: «Вот… Я знаю, кто ты!.. Ни ты, ни я не виноваты; но мы не можем больше жить вместе. Разойдемся». А чтобы защититься от её преследований, он поедет к матери и сестрам, и ронский ветер, свободный и целительный мистраль, смоет всю грязь и ужас его кошмарного сна.
Фанни легла в постель, устав ждать его, и спала крепким сном под лампой, с раскрытой книгою на одеяле. Его шаги не разбудили ее, и он смотрел на нее с любопытством, как на новую, чужую женщину.
О, как она была прекрасна! Руки, шея, плечи словно из янтаря, без пятнышка, без малейшего изъяна. Но какая усталость, какое красноречивое признание в её покрасневших веках – быть может от романа, который она читала, быть может от беспокойства и ожидания, – в этих чертах, спокойных, не оживленных острой жаждой женщины, желающей, чтобы ее ласкали и любили! Её годы, её жизнь, её приключения, её капризы, её минутные браки, Сен-Лазарская тюрьма, побои, слезы, боязнь – все можно было прочесть в них, и синева наслаждений и бессонных ночей, и складка отвращения, оттягивавшая нижнюю губу, утомленную, словно слив колодца, из которого пила вся деревня, и начинавшаяся полнота, растягивавшая кожу для старческих морщин…
Это предательство сна, среди глубокого мертвого молчания, окутывающего все, было величественно и мрачно; как поле сражения ночью, со всеми его ужасами, как видимыми, так и угадываемыми по смутным движениям тени.
Бедного юношу вдруг охватило огромное, непобедимое желание плакать.
Глава 4
Они кончали обед сидя у открытого окна, под протяжный свист ласточек, приветствовавших заход солнца. Жан молчал, собираясь заговорить, и все о той же жестокой вещи, которая преследовала его и которой он мучил Фанни с минуты своей встречи с Каудалем. Она, видя его опущенный взор и мнимо безразличный вид, с которым он предлагал ей все новые вопросы, угадала, и предупредила его:
– Послушай, я знаю, что ты мне скажешь… Избавь нас, прошу тебя… Нет сил, наконец… Ведь все это давно умерло, я люблю одного тебя, и кроме тебя для меня никто не существует!..
– Если прошлое умерло, как ты говоришь… – он заглянул в самую глубину её прекрасных глаз серого цвета, трепетавшего и менявшегося при каждом новом впечатлении. – Ты не хранила бы вещей, которые тебе его напоминают… там в шкафу…
Серый цвет глаз превратился в черный:
– Итак ты знаешь?
Приходилось проститься с этим ворохом любовных писем, портретов, с этим победным любовным архивом, который она не раз уже спасала от крушений.
– Но будешь ли ты мне верить после этого?
В ответ на скептическую улыбку, бросавшую ей вызов, она пошла за лаковым ящиком, металлическая резьба которого, среди стопок её тонкого белья, так сильно интересовала в последние дни её любовника.
– Жги, рви, все это – твое…
Но он не торопился повертывать в замке крошечный ключик, разглядывая вишневые деревья из розового перламутра и летящих журавлей, выложенных инкрустацией на крышке, которую он вдруг резко открыл… Всевозможные форматы, почерки, цветная бумага, с золочеными заглавными буквами, старые пожелтевшие записки, истершиеся на складках, листочки из записных книжек, со словами, нацарапанными карандашом, визитные карточки, – все это лежало кучей, без всякого порядка, как в ящике, в котором часто рылись и, в который теперь он сам запускал свои дрожащие руки…
– Дай их мне! Я их сожгу на твоих глазах!
Она говорила лихорадочно, стоя на коленях перед камином; рядом с ней на полу стояла зажженная свеча.
– Дай же…
Но он сказал:
– Нет… погоди… – и полушёпотом, словно стыдясь, прибавил, – Мне хотелось бы прочесть…
– К чему? Тебе это будет тяжело…
Она думала лишь о его страданиях, а не о вероломстве с её стороны выдавать тайны страсти, трепещущие признания всех этих людей, когда-то любивших ее; подвинувшись к нему и не вставая с колен, вместе с ним читала, искоса на него поглядывая.
Десять страниц, подписанных Гурнери, помеченных 1861-м годом и написанных длинным, кошачьим почерком, в которых поэт, посланный в Алжир для официального отчета о путешествии императора и императрицы, описывал своей любовнице ослепительные празднества…
Алжир, кишащий народом, настоящий Багдад тысячи и одной ночи; жители всей Африки, собравшиеся вокруг города и хлопающие дверями домов, как налетевший Самум. Караваны негров и верблюдов, нагруженных гумми, раскинутые палатки, запах мускуса над всем этим бивуаком, расположенном на берегу моря; пляски ночью вокруг огней, толпа расступавшаяся каждое утро перед появлением начальников с Юга, напоминавших магов с их восточной пышностью, с разноголосой музыкой: тростниковыми флейтами, маленькими хриплыми барабанами, окружающими трехцветное знамя пророка; а позади, ведомые неграми под уздцы лошади, предназначенные в подарок императору, украшенные шелком, покрытые серебряными попонами, потряхивавшие с каждым шагом бубенчиками и шитьем…
Талант поэта оживлял все это и заставлял проходить перед глазами; слова сверкали как драгоценные камни без оправы, высыпанные ювелиром на бумагу. Поистине должна была гордиться женщина, к ногам которой бросались все эти сокровища! Можно было себе представить, как ее любили, ибо, несмотря на все очарование этих празднеств, поэт думал только о ней, умирал от того, что не видел ее:
«Ах, сегодняшнюю ночь я провел с тобой, на широком диване, на улице Аркад. Ты была безумна, обнаженная, ты кричала от восторга, осыпаемая моими ласками, когда я вдруг проснулся укутанный ковром на моей террасе, под сводом звездной ночи. Крик муэдзина поднимался в небо с соседнего минарета, словно яркая и чистая ракета, скорее страстная, нежели молящая, и я снова слышал словно тебя, просыпаясь от моего сна».
Какая злая сила заставила его продолжать чтение письма, несмотря на ужасную ревность, от которой у него побелели губы и судорожно сжимались руки? Нежно, лукаво, Фанни пробовала было отнять у него письмо; но он дочитал его до конца, а за ним второе, потом третье, роняя их после прочтения, с оттенком презрения и равнодушия, и не глядя на огонь в камине, вспыхивавший ярче от страстных и полных лиризма излияний знаменитого поэта. Порой, под наплывом этой любви, переходившей все границы среди африканской атмосферы, лирическое чувство любовника вдруг бывало запятнано какой-нибудь грубой, грязной выходкой, достойной солдата, которая удивила бы и шокировала бы светских читательниц «Книги любви», утонченно-духовной и чистой, как серебряная вершина Юнгфрау.
Страдания сердца! На них-то, на этих грязных местах и останавливался главным образом Жан, не подозревая того, что лицо его всякий раз нервно передергивалось судорогой. Он имел даже дух усмехнуться над постскриптумом, следовавшим за ослепительным рассказом о празднике в Айсауассе: «Перечитываю мое письмо… Многое в нем недурно; отложи его для меня, оно мне может пригодиться…»
– Этот господин подбирал все! – проговорил Жан, переходя к другому листку, исписанному тем же почерком, в котором ледяным тоном делового человека Гурнери требовал обратно сборник арабских песен и пару туфель из рисовой соломы. То был конец их любви. Ах, этот человек мог уйти, он был силен!
И, безостановочно, Жан продолжал осушать это болото, над которым поднимались горячие и вредные испарения. Настала ночь; он поставил свечу на стол, и прочитывал коротенькие записки, набросанные неразборчиво, словно чересчур грубыми пальцами, которые в порыве неутоленного желания или гнева дырявили и прорывали бумагу. Первое время связи с Каудалем, свидания, ужины, загородные прогулки, затем ссоры, возвраты с мольбами, крики, низменная и неблагородная мужицкая брань, прерываемая шутками, забавными выходками, упреками и рыданиями, весь страх великого художника перед разрывом и одиночеством…
Огонь пожирал все, вытягивал длинные, красные языки, среди которых дымились и корчились плоть, кровь и слезы гениального человека; но какое дело до этого было Фанни, всецело принадлежавшей теперь молодому любовнику, за которым она следила, и чья безумная горячка сжигала ее сквозь платье! Он нашел портрет, сделанный пером, подписанный Гаварни, со следующим посвящением: «Подруге моей, Фанни Легран, в трактире Дампьер, в день, когда шел дождь». Умное и болезненное лицо, со впалыми глазами, с оттенком горечи и муки…
– Кто это?
– Андрэ Дежуа… Я дорожу им только из-за подписи.
Он сказал «можешь оставить», но с таким жалким, принужденным видом, что она взяла рисунок, изорвала его на мелкие клочки и бросила в огонь; а он погружался в переписку романиста, в ряд горестных посланий помеченных зимними морскими курортами, названиями купаний, где писатель, посланный для поправки и отдыха, отчаивался и страдал физически и духовно, ломая себе голову, в поисках замыслов, вдали от Парижа, перемежая просьбы лекарств, рецептов, денежные профессиональные заботы, отсылку корректур – все тем же криком желания и обожания, обращенными к прекрасному телу Сафо, бывшему для него под запретом врачей.
Жан, в бешенстве, прошептал:
– Но что же, в самом деле, заставляло всех их так гоняться за тобою?..
Он видел в этом единственное значение этих отчаянных писем, раскрывавших всю неурядицу жизни одного из великих людей, которым завидует молодежь и о которых мечтают романтические женщины… Да, в самом деле, что испытывали все они? Каким питьем поила она их?.. Он переживал страдания человека, который, будучи связан, видит, как при нем оскорбляют любимую женщину; и, тем не менее, он не мог решиться сразу, закрыв глаза, выбросить все, что находилось в этой коробке.
Настала очередь гравера, который, будучи неизвестен, беден, не прославленный никем кроме «Судебной газеты», был обязан своим местом среди этих реликвий лишь огромной любви, которую она к нему питала. Позорны были эти письма, помеченные Мазасской тюрьмой, глупые, неуклюжие, сантиментальные, как письма солдата к своей землячке! Но в них, сквозь подражание романсам, слышался оттенок искренней любви, уважения к женщине, забвения самого себя, отличавшее от других этого каторжника; так, например, когда он просил прощения у Фанни в том, что слишком любил ее, и когда из канцелярии суда, тотчас по объявлении приговора, писал ей о своей радости по поводу того, что она оправдана и свободна. Он ни на что не жаловался; он провел вблизи её и благодаря ей два года такого полного, такого глубокого счастья, что воспоминаний о нем достаточно, чтобы наполнить его жизнь, смягчить ужас его положения, и он кончал просьбой оказать ему услугу!