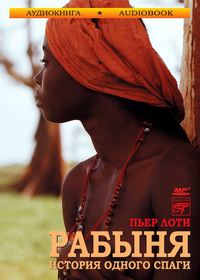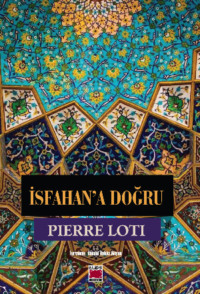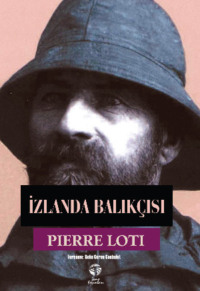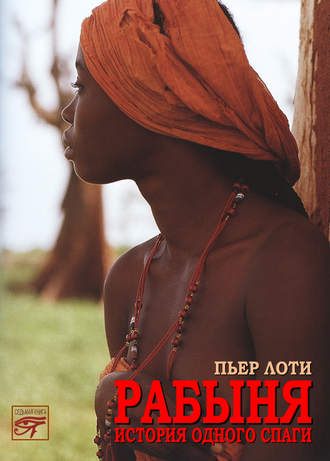
Полная версия
Рабыня

Пьер Лоти
Рабыня
Глава первая
Миновав южную оконечность Марокко, и спускаясь к тропикам вдоль африканского побережья, долгие дни и ночи созерцаешь нескончаемый пустынный край. Это Сахара, «огромное безводное море», или, как называют его мавры, «Билад-уль-Аташ» — Страна жажды.
Пустыня насчитывает пятьсот лье в длину — и никаких ориентиров для плывущего корабля, ни одного растения, ни единого признака жизни.
С печальным однообразием проплывают мимо безлюдные пространства, зыбучие пески дюн, бескрайние горизонты — и с каждым днем все нестерпимее становится жара.
Потом, наконец, над песками встает старинное белое селение с редкими пожелтевшими пальмами: это сенегальский город Сен-Луи, столица Сенегамбии.
Церковь, мечеть, сторожевая башня, дома в мавританском стиле… Все будто дремлет под палящим солнцем, как в тех португальских городах, что процветали некогда на берегах Конго, — Сан-Паулу и Сен-Филипп де Бенгела.
Но вот корабль подходит ближе, и как же тут не подивиться, — город построен не на берегу, даже порта нет, нет вообще никакого сообщения с внешним миром. Берег, прямой и низкий, столь же неприветлив, как и Сахара, а бесконечная цепь скал не дает пристать кораблям.
Теперь можно разглядеть то, чего не видно было издалека: огромные человеческие муравейники на берегу, тысячи и тысячи соломенных хижин, островерхих лилипутских шалашей, где копошатся странные темнокожие существа. Это два больших города народа волоф — Гет-н'дар и Н'дартут, отделяющие Сен-Луи от моря.
Как только остановишься где-нибудь неподалеку, тут же появляются длинные пироги с загнутым носом, с рыбьей мордой и повадками акулы. Управляют ими стоя черные мужчины — высокие, худощавые, с лицами горилл и прекрасными, приводящими в восхищение мускулистыми фигурами. Проплывая над подводными скалами, гребцы опрокидываются раз десять. Но с негритянским упорством, ловкостью и силой клоунов десять раз кряду переворачивают пирогу и снова пускаются в путь; пот и морская вода ручьями струятся по их обнаженной коже, похожей на покрытое лаком эбеновое дерево.
Но вот они, наконец, добрались до корабля и в торжествующей улыбке показывают великолепные белые зубы. Одеяние силачей состоит из амулета и стеклянных бус, а кладь — из тщательно закрытого свинцового ящика для писем.
Именно в нем заключены распоряжения губернатора прибывшему кораблю и бумаги, адресованные колонии.
Когда спешишь, можно безбоязненно положиться на этих мужчин и быть уверенным, что, случись лодке перевернуться, тебя с величайшей заботой обязательно выловят и в конце концов доставят на берег.
Однако гораздо удобнее продолжить путь в южном направлении и дойти до самого устья Сенегала, — там вас подберут плоскодонки и преспокойно отвезут в Сен-Луи по реке.
Такая оторванность от моря — главная причина застоя и уныния края; Сен-Луи не приспособлен для стоянки пассажирских пароходов и торговых судов, которые направляются в другое полушарие. Сюда заглядывают лишь по необходимости, никто никогда не бывает здесь проездом, и, похоже, местные жители чувствуют себя узниками, абсолютно отрезанными от остального мира.
В северном квартале Сен-Луи, возле мечети, стоял на отшибе старый маленький домик, принадлежавший некоему Самба-Хамету, торговцу с верховьев реки. Дом был выбелен известью; его потрескавшиеся кирпичные стены и рассохшиеся от жары доски служили пристанищем целым полчищам термитов, белых муравьев и голубоватых ящериц. Два марабу, поселившиеся на крыше, на самом солнцепеке, важно вытягивали плешивые шеи над прямой пустынной улицей и щелкали клювами на солнце, когда кто-нибудь случайно проходил мимо. О, печаль этой африканской земли! Хилая колючая пальма каждодневно медленно перемещала свою скудную тень вдоль раскаленной стены; то было единственное дерево во всем квартале — никакая другая зелень не ласкала здесь взор человека. На пожелтелые пальмовые ветви нередко садились стаи крохотных голубых и розовых зябликов, которых во Франции называют бенгали. А вокруг — песок, только песок. И нигде никакого моха, ни единой свежей травинки на иссушенной обжигающим дыханием Сахары земле.
Внизу, в ворохе причудливого тряпья — остатков прежней роскоши, жила ужасная старая негритянка по имени Кура-н'дьяй, бывшая фаворитка великого черного короля; жила там, среди коз, огромных рогатых баранов, тощих желтых собак и увешанных голубыми стеклянными украшениями маленьких рабынь.
Наверху же находилась просторная квадратная комната с высоким потолком, куда вела внешняя деревянная лестница, источенная червями.
Каждый вечер на заходе солнца в дом Самба-Хамета приходил мужчина в красной куртке, с мусульманской феской на голове — молодой спаги — так когда-то называли в африке служивых из частей французской колониальной артиллерии. Два марабу Кура-н'дьяй замечали его еще издалека, с другого конца мертвого города. Они безошибочно распознавали его шаг, его походку, яркие краски костюма и, не выражая ни малейшего беспокойства, давали войти, как давнему знакомому.
Этот высокий мужчина, державший голову гордо и прямо, чистокровный белый, хотя на африканском солнце лицо и грудь его покрылись темным загаром, отличался необыкновенной красотой — строгой и мужественной. У спаги были удлиненные, как у арабов, большие светлые глаза; из-под сдвинутой назад фески выбивалась прядь темных волос, ниспадавших на широкий чистый лоб. Красная куртка подчеркивала восхитительную линию талии, а во всем облике этого человека ощущалось сочетание гибкости и силы.
Обычно он бывал серьезен и задумчив; редко кому доводилось видеть его ослепительную улыбку, таившую в себе что-то от дикой кошки.
Но вот как-то вечером мужчина в красной куртке поднялся по деревянной лестнице Самба-Хамета с еще более задумчивым видом, чем всегда.
Войдя в свою комнату наверху, он, казалось, удивился, обнаружив, что она пуста.
Надо сказать, что жилище это, заставленное лишь покрытыми циновками скамейками, выглядело довольно странно. С потолка свисали пергаменты, исписанные священнослужителями Магриба, и разные талисманы.
Спаги подошел к украшенному медными пластинками и размалеванному яркими красками сундуку на ножках, наподобие тех, в которых народ волоф прячет ценные вещи, и попытался открыть его, но обнаружил, что сундук заперт.
Тогда, расположившись на таре — это что-то вроде софы из легких реек, их мастерят негры в Гамбии, — он достал из кармана письмо и стал читать его, сперва поцеловав в том месте, где стояла подпись.
Наверняка читатель решил, что речь идет о любовном послании какой-нибудь красавицы, возможно, изысканной парижанки или же другой романтической сеньоры. Статный африканский спаги казался прямо-таки созданным для ролей героев-любовников из нашумевших мелодрам.
Вероятно, сей листок бумаги должен стать для нас завязкой некоего драматического приключения, которым и начнется эта история…
На письме, к которому спаги припал губами, стоял штемпель затерянной в Севеннах деревушки. Строчки, написанные старой, дрожащей, неопытной рукой, налезали одна на другую, да и ошибок хватало.
В письме говорилось:
«Дорогой сынок, настоящим сообщаю о нашем здоровье, которое пока довольно хорошее, за что мы и благодарим Господа Бога. Но отец говорит, что чувствует, как стареет, все хуже становится зрение, и потому я, твоя старая мать, беру перо, чтобы рассказать о нашем житье-бытье; ты уж прости, сам знаешь: лучше я писать не умею.
Дорогой сынок, хочу тебе сказать, что с некоторых пор мы оказались в затруднении. Вот уже три года, как ты уехал, и все теперь не ладится; достаток и радость покинули нас. Год выдался тяжелый из-за сильного града, который, почитай, все-все погубил в поле, за исключением того, что у самой дороги. Корова заболела, лечить ее обошлось очень дорого; поденной работы отцу не всегда хватает, ведь он работает с молодыми, а те делают все быстрее; к тому же еще пришлось починить часть крыши дома, она грозила рухнуть из-за дождей. Я знаю, на службе платят небогато, но отец говорит, что если бы ты сумел прислать то, что обещал, не урезая себя, нам было бы немного полегче.
Мери, конечно, вполне могли бы ссудить нас, у них-то всего в достатке, но просить не хочется, стыдно выглядеть бедняками. Часто видим Жанну Мери — твоя кузина хорошеет день ото дня. Она всегда рада-радешенька поговорить с нами о тебе, и уверяет, дорогой Жан, будто ждет не дождется вашей свадьбы. Зато ее отец об этом больше и слышать не хочет, ведь мы бедные, да к тому же, сказать по правде, в свое время ты был изрядным шалопаем. Но я все-таки уверена: вот получишь нашивки сержанта, вернешься в прекрасном военном мундире, и все, в конце концов, образуется. Я умерла бы спокойной, поженив вас. Конечно, наш дом не слишком хорош. Ну так построили бы себе рядом новый. Мы с Пейралем любим помечтать об этом вечерами.
Обязательно, дорогой сынок, пришли немного денег, без них просто беда, выкрутиться в этом году не удалось, как я уже говорила, из-за града и из-за коровы. Вижу, как мается отец, как по ночам ему не спится, все о чем-то думает и без конца ворочается. Если не можешь прислать большую сумму, пошли, что сумеешь.
Прощай, дорогой сынок. Люди в деревне часто спрашивают о тебе, хотят знать, когда вернешься. Соседи передают большой привет, а что до меня, то, сам знаешь: с тех пор, как ты уехал, я ничему не рада.
Заканчивая, обнимаю тебя, и Пейраль — тоже.
Твоя старая любящая мать
Франсуаза Пейраль».
…Жан облокотился о подоконник и задумался, словно завороженный бескрайним африканским простором: за окном проступали очертания сгрудившихся островерхих хижин народа волоф; вдалеке простирался неспокойный океан с неизменной грядой африканских скал; готовое вот-вот исчезнуть желтое солнце проливало последний тусклый свет на необъятную, без конца и края, пустыню; в небе парили стаи хищных птиц, где-то у горизонта маячил караван мавров, а еще дальше скрывалось кладбище Сорр, неотвратимо притягивавшее взор спаги: сколько его товарищей, тоже горцев, уже покоилось там, все они умерли от лихорадки в этом проклятом климате.
Ах, вернуться бы к старым родителям! Жить бы да поживать в маленьком домике вместе с Жанной Мери, рядом со скромным отцовским жилищем!.. Зачем он в Африке?.. Что общего между ним и этой землей? Красный костюм и арабская феска — что за жалкий маскарад для бедного, незаметного крестьянина из Севенн!
Долго стоял так в задумчивости, вспоминая родную деревню, несчастный сенегальский воин, а с заходом солнца и наступлением ночи и вовсе закручинился. Со стороны Н'дартута торопливые удары тамтама созывали негров на бамбулу;[1] в хижинах волоф один за другим зажигались огни. Тем декабрьским вечером дул отвратительный зимний ветер, поднимая вихри песка и бросая в дрожь непривычную к холодам, огромную, испепеленную солнцем страну.
Открылась дверь, и похожий на шакала рыжий с прямыми ушами пес местной породы лаобе, ворвавшись с шумом, запрыгал вокруг хозяина.
Тут же появившаяся на пороге черная девушка, веселая и смешливая, сделала что-то вроде реверанса — пружинистого, неожиданного и комичного, промолвив при этом «Кеу!» (Добрый день!)
Бросив на нее рассеянный взгляд, спаги произнес на смеси креольского, французского и языка волоф: — Фату-гэй, открой сундук, надо достать деньги.
— Твои халисы!..[2] — Фату-гэй широко открыла большие глаза, белизну белков которых подчеркивали темные веки. — Твои халисы!.. — повторила она с выражением ужаса и дерзкого вызова. В ожидании наказания девушка, словно нашкодивший и застигнутый врасплох ребенок, показала на свои уши, где красовались три пары золотых сережек восхитительной работы.
Это были одни из тех поразительно изящных галамских украшений,[3] секрет которых хранят черные художники, творящие под сенью маленьких низких навесов, сидя на корточках прямо на песке.
Фату-гэй только что сделала покупку, к которой так давно и страстно стремилась, потратив деньги спаги: добрую сотню собранных по крохам франков, плод жалких солдатских сбережений, предназначенных для родителей.
Глаза Жана сверкнули, рука схватила хлыст, однако тут же и опустилась. Пейраль быстро успокаивался, был отходчив и мягок, в особенности со слабыми.
Упрекать Фату он не стал — бесполезно. Да и сам виноват: почему не спрятал получше деньги, которые теперь во что бы то ни стало надо где-то найти?
Фату-гэй знала, как кошачьими ласками задобрить возлюбленного, как разбудить в нем лихорадку желания, вместе с которой придет и прощение: черными, в серебряных браслетах руками, прекрасными, словно руки статуи, она обвила его и прижалась обнаженной грудью к красному сукну куртки.
И спаги, не сопротивляясь, упал рядом с девушкой на тару, отложив до завтра поиски денег, которых в крытой соломой хижине дожидались его старые родители…
Глава вторая
Три года минуло с тех пор, как Жан Пейраль ступил на африканскую землю; за это время в нем произошли разительные перемены. Среда, климат, природа мало-помалу закружили молодую голову; спаги чувствовал, как медленно опускается, скользит по наклонной плоскости; и в конце концов он стал любовником Фату-гэй, чернокожей девушки из племени хасонке,[4] околдовавшей его чувственным и нечистым соблазном, чарами неведомых волшебных амулетов.
История Жана была совсем несложной.
Двадцати лет от роду судьба отобрала его у старой матери — та горько плакала. Подобно другим сыновьям деревни, он уехал, громко распевая, чтобы не разрыдаться самому.
Высокий рост определил его путь в кавалерию. Таинственная тяга к неизвестному заставила выбрать корпус спаги.
Детство Жана прошло в Севеннах, в глухой деревушке, посреди лесов.
На вольном, чистом воздухе гор он рос, как молодой дубок.
Первые картинки, запечатлевшиеся в детской голове, были ясными и простыми: отец и мать, два дорогих образа; семейный очаг, старенький домик под каштанами.
Эти неизгладимые воспоминания заняли священное место в глубине его сердца. А потом были бескрайние леса, поиски приключений на заросших мохом тропинках — свобода!
В первые годы жизни он только и знал что затерянную деревню, где родился, — вокруг не существовало ничего, кроме дикой природы, населенной пастухами и горными колдунами.
Целыми днями скитаясь в лесах, он предавался одиноким детским мечтаниям, созерцаниям пастушонка, потом пришел черед каких-то безумных желаний: хотелось бегать сломя голову, куда-то карабкаться, ломать ветки деревьев, ловить птиц.
Скверным воспоминанием была деревенская школа: мрачное место, где приходилось сиднем сидеть взаперти. Скоро посылать его туда отказались — зачем, все равно убежит.
По воскресеньям, надев красивые одежды горца, он вместе с матерью отправлялся в церковь, держа за руку маленькую Жанну, — ее забирали по дороге у дядюшки Мери. Потом шел на площадку под дубами играть в шары.
Жан был красивее и сильнее других ребятишек и знал это; во время игр повиновались не кому-нибудь, а ему.
С годами привычка всюду находить такое подчинение, стремление к независимости и вечному движению стали еще заметнее. Он всегда поступал по-своему и всегда в ущерб себе: браконьерствовал в любое время года со старым, плохо стрелявшим ружьем, навлекая постоянные нарекания лесника, к великому отчаянию дядюшки Мери, мечтавшему сделать из мальчишки достойного человека, обучить его ремеслу.
Что верно, то верно, он и правда был «в свое время изрядным шалопаем».
Но все-таки паренька любили — даже те, кто больше всех от него натерпелся, потому что сердце у Жана оставалось чистым и открытым. А стоило сорванцу улыбнуться, злость у людей как рукой снимало, да и самого Жана, если взяться умеючи, всегда удавалось урезонить лаской. Правда, дядюшка Мери со своими нравоучениями и угрозами не мог рассчитывать на успех; зато когда под градом упреков матери Жан сознавал, что действительно огорчил ее, этот высокий парень, почти мужчина, опускал голову, готовый расплакаться.
Неукротимый, но не распущенный, он слыл сильным, гордым и, пожалуй, чуть диковатым подростком. В деревне не ведали испорченности чахлых горожан и потому не опасались дурных примеров. Когда Жану минуло двадцать лет и пришло время идти на службу, он был так же чист и почти несведущ в жизни, как малый ребенок.
Зато потом наступила совсем иная, полная неожиданностей пора.
Жан следовал за новыми товарищами туда, где творится блуд, где любовь познается среди самого гнусного и мерзкого разврата. Удивление, отвращение, но и неодолимая привлекательность того, что может предложить проституция больших городов, поразили беднягу, вскружив его юную голову.
Затем, после нескольких дней столь бурной жизни, по спокойному синему океану корабль унес его далеко, очень далеко, чтобы высадить — ошеломленного и выбитого из колеи — на побережье Сенегала.
Однажды ноябрьским днем — в ту пору, когда огромные баобабы роняют на песок последние листья, — Жан Пейраль впервые с любопытством взглянул на уголок земли, где по воле случая ему уготовано было судьбой провести пять лет жизни.
Необычность этого края поначалу сильно поражала воображение. Но потом все заслонило острое чувство радости: у него теперь есть лошадь, арабская шапочка, красная куртка и огромная сабля и еще… возможность закручивать быстро отраставшие усы.
Он счел себя красивым, и это ему понравилось.
Ноябрь — хорошее время года, соответствующее французской зиме; жара спадает, и сухой ветер из пустыни приходит на смену сильным летним грозам. Можно спокойно располагаться под открытым небом, без всякой крыши над головой. В течение шести месяцев на эту землю не упадет ни единой капли воды, и день за днем, без передышки нещадно будет палить немилосердное солнце.
Это любимая пора ящериц; но в водоемах не хватает воды, болота высыхают, трава увядает, и даже кактусы, колючие опунции,[5] не раскрывают своих унылых желтых цветов. Между тем вечерами становится прохладно; после захода солнца обычно поднимается сильный ветер, он безжалостно обрывает с деревьев последние осенние листья и заставляет рокотать волны у скалистых берегов.
Грустная осень, которая не приносит с собой ни долгих французских вечеров, ни прелести первых заморозков, ни урожая, ни золотистых фруктов. В этой обездоленной Богом стране фруктов не бывает; ей отказано даже в финиках — плодах пустыни, — там ничто не вызревает, ничто, только арахис да горькие фисташки.
Зима при знойной жаре производит странное впечатление.
Вокруг простираются необъятные, раскаленные, мрачные и унылые равнины, покрытые мертвыми травами, где рядом с чахлыми пальмами то тут, то там высятся, словно мастодонты[6] растительного царства, громадные баобабы — прибежища целых семейств стервятников, ящериц и летучих мышей.
Однако вскоре бедного Жана одолела скука, что-то вроде неведомой ему прежде меланхолии, начало смутной, необъяснимой тоски по горам, тоски по деревне и крытой соломенной крышей хижине его горячо любимых родителей.
Новые товарищи, спаги, уже побывали со своими огромными саблями в различных гарнизонах Индии и Алжира. Они растеряли молодость в кабачках приморских городов, зато приобрели привычку к зубоскальству и распущенности — неизбежным спутникам странствий по миру; на все про все у них имелся запас готовых циничных шуток на французском арго, арабском и сабире — чудовищной смеси того и другого. Развлечения этих, по существу, славных ребят, веселых товарищей, вызывали у Жана глубокое отвращение, он не принимал их жизни.
По натуре Жан, уроженец гор, был мечтателем. А мечтательность несвойственна отупевшему, испорченному люду больших городов. Однако среди мужчин, выросших в полях, или среди моряков, сыновей рыбаков, воспитывавшихся в море в отцовской лодке, встречаются люди, которые мечтают, настоящие безмолвные поэты. Они все могут понять, только вот не могут выразить, облечь свои ощущения в нужные слова.
В казарме у Жана с избытком хватало свободного времени для наблюдений и размышлений.
Каждый вечер он уходил на бескрайние пляжи, блуждая по голубоватым пескам, озарявшимся невообразимыми закатами, купался средь огромных скал африканского побережья, забавляясь, словно ребенок, игрою с гигантскими волнами, обдававшими его песком.
Или же долго шагал неведомо куда — просто ради удовольствия двигаться, вдыхать полной грудью летевший с океана соленый ветер. Подчас эта плоская равнина раздражала его, угнетала его воображение, привыкшее к горному пейзажу; хотелось все время идти вперед, за горизонт, чтобы увидеть, что там.
С наступлением сумерек берег заполнялся черными мужчинами, возвращавшимися в деревни со снопами проса, и рыбаками в окружении шумных ватаг ребятишек и женщин. Уловы в Сенегале всегда бывали поистине чудесны: сети буквально лопались под тяжестью тысяч и тысяч самых разнообразных рыб. Полные корзины с дарами моря негритянки водружали себе на голову, а черные ребятишки разбегались по домам, каждый увенчанный короной из огромных трепещущих рыбин, нанизанных за жабры. На каждом шагу тут встречались поразительные человеческие типы — прибывшие с живописными караванами мавры и пёли,[7] говорившие на берберском языке, представители других народов из глубины материка. В невероятном освещении раскаленного светила взору то и дело открывались картины, которые невозможно описать.
Потом гребни голубых дюн начинали розоветь; последние горизонтальные лучи ложились на песок; солнце угасало в кровавом мареве, и тогда весь этот черный люд бросался лицом на землю для вечерней молитвы.
То был святой час ислама; от Мекки до самого края Сахары имя Мухаммеда, передаваемое из уст в уста, проносилось над Африкой, словно таинственное дуновение. Миновав Судан, оно постепенно стихало, а докатившись сюда, к кромке огромного волнующегося океана, угасало на черных губах.
Обратившись к темнеющему океану, старые священнослужители волоф в развевающихся одеждах, уткнувшись лбом в песок, читали молитвы, и все побережье сплошь было покрыто простершимися людьми. Наступала полнейшая тишина, и вдруг с поразительной скоростью, обычной для тропических стран, спускалась ночь.
С наступлением темноты Жан возвращался в казарму в южной части Сен-Луи.
В большом белом зале, открытом для вечернего ветра, пронумерованные койки спаги стояли вдоль голых стен; теплый ветерок с океана колыхал кисейные москитные сетки. Вокруг — никого. Тихо и спокойно. Жан возвращался, когда другие разбредались по пустынным улицам в поисках развлечений и любовных утех.
В этот час уединенная казарма выглядела особенно печальной, и он все больше думал о матери.
В южной части Сен-Луи стояли старые кирпичные дома в арабском стиле; вечерами, когда все засыпало в мертвом городе, в них загорался свет, отбрасывавший на песок красные полосы. В воздухе повисала странная, усиленная свирепой жарой смесь запахов: алкоголя и чернокожих тел, слышался шум нестройных голосов пьяных спаги. Несчастные воины в красных куртках отправлялись сюда попусту растрачивать свою могучую жизненную силу: употребить — по необходимости или из удальства — невероятное количество спиртного, побуянить и забыться.
В этих притонах, переполненных проститутками-мулатками, устраивались гнусные, необузданные оргии, подогреваемые абсентом и африканским климатом.
Жан с ужасом обходил подобные злачные места. Он был очень благоразумен и уже начал откладывать причитавшиеся ему за службу жалкие гроши, мечтая о радостной минуте возвращения домой.
Да, он был очень благоразумен, а между тем товарищи и не думали высмеивать его.
Красавец Фриц Мюллер, высокий парень из Эльзаса, которому богатое дуэлями и приключениями прошлое снискало непререкаемый авторитет в казарме, так вот красавец Мюллер глубоко уважал Пейраля, да и все остальные тоже. Но настоящим другом Жана был Ньяор-фалл, черный спаги, великолепный африканский великан из народности фута-дьялонке; его удивительное невозмутимое лицо с изящным арабским профилем и неизменной таинственной улыбкой на тонких губах напоминало лицо прекрасной статуи черного мрамора.
Он-то и стал истинным другом Жана; водил его к себе, в туземное жилище в Гет-н'даре; усаживал среди своих женщин на белой циновке и угощал негритянскими кушаньями: кускусом и гуру.
По вечерам Сен-Луи жил монотонной жизнью маленьких колониальных городков. Лишь в хорошее время года улицы некрополя оживали; после захода солнца женщины, которых пощадила лихорадка, демонстрировали на площади Правительства или в аллее желтых пальм Гет-н'дара свои туалеты, напоминавшие здесь, в стране изгнания, о Европе.