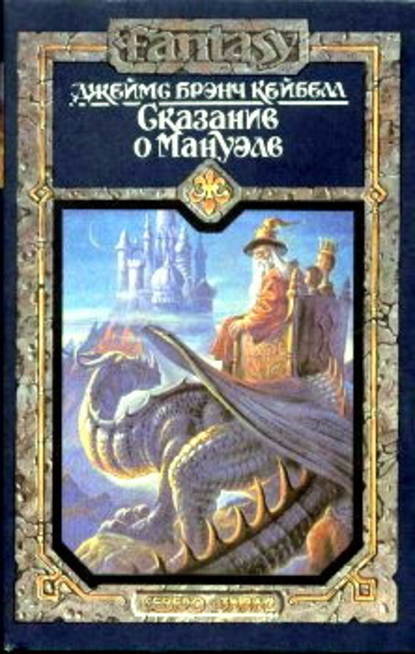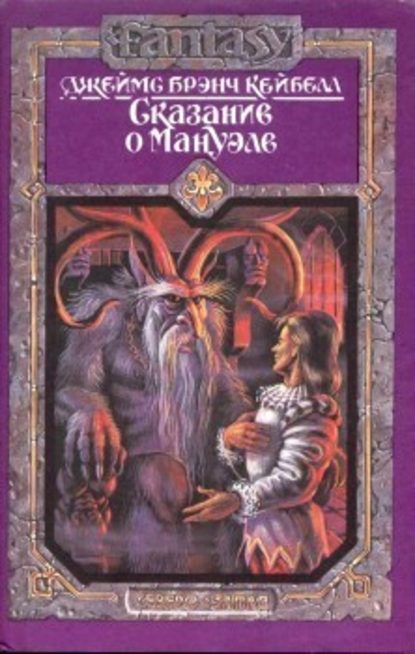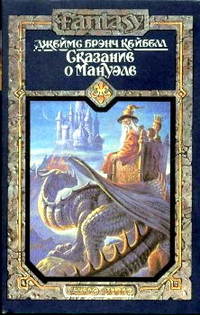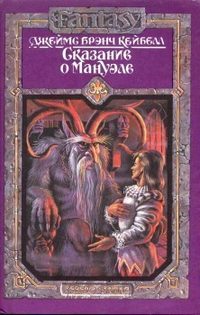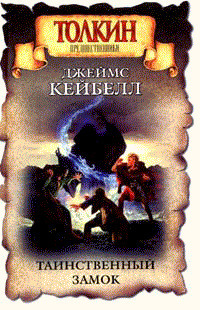полная версия
полная версияЗемляные фигуры
– Человек, которого ты можешь помнить, – ответил Мирамон и сделал знак радужной толпе своих приспешников.
По этому жесту один из них шагнул вперед. Это был высокий, худощавый юнец с румяными щеками, широко расставленными глазами и небольшой головой, покрытой густыми, вьющимися темно-рыжими волосами. И Мануэль сразу же его узнал, поскольку у Мануэля были все причины запомнить странный разговор, который он вел с этим самым Горвендилом сразу же после того, как Ниафер ускакала прочь с ужасным братом Мирамона.
– Но вы не думаете, что этот Горвендил сумасшедший? – шепотом спросил дон Мануэль у волшебника.
– Думаю, он частенько производит такое впечатление.
– Тогда почему вы делаете его моим сюзереном?
– У меня есть свои причины, можешь быть уверен. А если я не говорю о них, можешь быть уверен, что на это у меня тоже есть причины.
– Но, значит, этот Горвендил один из Леших? Тот ли это Горвендил, большой палец ноги которого есть утренняя звезда?
– Могу сказать, что именно он призвал меня помочь тебе в твоем горе, о котором на Врейдексе я не слышал, но почему я должен рассказывать тебе больше, дон Мануэль? Разве не достаточно предложенных тебе провинций и сравнительно спокойных условий жизни с женой, что ты еще в придачу хочешь узнать все мои старые тайны?
– Ты прав, – сказал Мануэль, – а благодетелей нужно ублажать. – Так что он остался доволен своим неведением, да так никогда и не разузнал ничего про Горвендила, хотя позднее у Мануэля должны были возникнуть жуткие подозрения.
Между тем дон Мануэль любезно пожал руку рыжеволосому юноше и заговорил об их первой встрече.
– И, в конце концов, я не считаю, что ты говорил крайнюю глупость, мой мальчик, – сказал со смехом Мануэль, – ибо я узнал, что та странная и опасная вещь, о которой ты мне сообщил, зачастую верна.
– Откуда мне знать, – тихо ответил Горвендил, – когда я говорю глупости, а когда нет. Мануэль же сказал:
– Все же я могу понять твои речи лишь отчасти. В общем, не наше право понимать своих сюзеренов, и неважно, безумец ты или нет, я предпочитаю тебя королеве Стультиции и ее нелепым розовым очкам. Поэтому давай поступим по всей форме и составим текст нашего соглашения.
Это было сделано, и они по всем правилам подписали условия, по которым дон Мануэль и потомки дона Мануэля должны были вечно владеть Пуактесмом в качестве фьефа, пожалованного Горвендилом. Договор был тайным, и разглашение десяти его пунктов даже сейчас привело бы к чудовищным последствиям. Поэтому условия договора никогда не были обнародованы, и все люди оставались не более вольны критиковать его оговорки, чем сам дон Мануэль, на которого женитьба наложила обязательство так или иначе обеспечивать жену и ребенка.

Глава XXXII
Спасение Пуактесма
Когда эти дела были завершены, а будущее Пуактесма обговорено в мельчайших подробностях, жена Мирамона Ллуагора сказала ему, что мужчинам уже хватит играть заумными словами, чернильницами и сургучными печатями и самое время предпринять что-то разумное по еще одному вопросу, если они, конечно, не считают, что Ниафер должна растить ребенка в канаве. Волшебник сказал:
– Да, моя дорогая, ты совершенно права, и я займусь этим в первую очередь после обеда. Потом он обратился к Мануэлю:
– Сейчас Горвендил сообщил мне, что ты должным образом родился в пещере примерно во время зимнего солнцестояния от матери-девственницы и отца, который не был человеком.
Мануэль ответил:
– Несомненно, это так. Но почему ты сейчас затрагиваешь щекотливые старые истории?
– Ты должным образом странствовал с места на место, принося людям мудрость и святость…
– Это тоже всем известно.
– Ты должным образом творил такие чудеса, как воскрешение мертвых и тому подобное…
– Это также неопровержимо.
– Ты должным образом пребывал в пустынном месте со злом, и там тебя искушали отчаиваться, богохульствовать и совершать другие непотребства…
– Да, нечто в этом роде произошло в Дан-Валахлоне.
– И, как я хорошо знаю, ты свои поведением на Врейдексе должным образом расстроил мои планы, а ведь я – сила тьмы.
– Ах-ах! Так, значит, ты, Мирамон, – сила тьмы!
– Я управляю всеми сновидениями и безумиями, Мануэль, а это основные силы тьмы.
Дон Мануэль, казалось, засомневался в этом, но лишь сказал:
– В общем, давай продолжим! Верно, что все это так или иначе со мной произошло.
Волшебник какое-то время смотрел на высокого воина, и в темных кротких глазах Мирамона виднелось некое странное сочувствие. Мирамон сказал:
– Да, Мануэль, эти предзнаменования далеко вперед разметили твою жизнь, точно так же, как они прежде отличали начинания Митры, Уицилопочтли, Таммуза и Геракла…
– Да, но какое это имеет значение, если эти происшествия случались со мной, Мирамон?
– Они случились также с Гаутамой, Дионисом, Кришной и всеми остальными достойными уважения спасителями, – продолжил Мирамон.
– Ладно, все это допустимо. Но какой вывод должен из всего этого сделать я?
Мирамон ему сказал.
Дон Мануэль в конце речи Мирамона выглядел особенно серьезным, и Мануэль сказал:
– Я думал, что достаточно удивительным было превращение короля Фердинанда в святого, но это превосходит все на свете! В любом случае, Мирамон, ты указал на обязательство настолько потрясающее, что, чем меньше о нем сказано, тем мудрее, и чем быстрее это обязательство выполнено, тем удобнее будет всем остальным.
Поэтому Мануэль ушел вместе с Мирамоном Ллуагором в одно тайное место, и там дон Мануэль подчинился тому, что требуется, а что произошло, с определенностью не известно. Но хорошо известно, что Мануэль страдал и после того, как провел в подземелье три дня, на третий день вышел наружу.
Затем Мирамон сказал:
– Все это должным образом исполнено, и, покончив с этим, мы теперь не нарушим мессианского этикета, если тотчас же займемся спасением Пуактесма. Предпочитаешь ли ты спасать с помощью сил добра или с помощью сил зла?
– Только не с помощью сил зла, – сказал Мануэль, – ибо я их видел во множестве в глухом Дан-Валахлонском лесу и не считаю их союзниками. Но разве добро и зло для вас, Леших, едины?
– Почему мы должны тебе рассказывать, Мануэль? – сказал волшебник.
– Устарелый ответ, Мирамон.
– Это не ответ, это вопрос. А вопрос стал устарелым, потому что использовался слишком часто, и ни один человек никогда не был в силах от него отделаться.
Мануэль бросил эту тему и пожал плечами.
– Ладно, давай завоевывать, как можем, но так, чтобы Бог был на нашей стороне. Мирамон ответил:
– Не бойся! Он будет во всех своих обликах и со всеми своими атрибутами.
И Мирамон сделал то, что требовалось, и с чердаков и свалок Врейдекса пришли мощные союзники. Для начала Мирамон необычным образом поступил с маленькой рыбкой, и в результате его поступка к ним прибыл в сентябре, в четверг днем, когда они стояли на берегу моря к северу от Манвиля, темнокожий герой, одетый в желтое. У него было четыре руки, в которых он держал булаву, раковину, лотос и диск. И ехал он на белом жеребце.
Мануэль сказал:
– Хороший знак, что Пуактесмский жеребец получает помощь, принесенную другим жеребцом.
– Давай не будем говорить об этом белом жеребце, – поспешно ответил Мирамон, – потому что до конца этой Юги у него нет имени. Но когда души всех людей сделаются кристально чистыми, тогда этому жеребцу суждено будет быть скрещенным, и его имя будет Калки.
– В общем, – сказал Мануэль, – это кажется достаточно справедливым. Я так понимаю, что при содействии этого смуглого господина мы и должны спасти Пуактесм.
– О нет, дон Мануэль, он лишь первый из наших спасителей, ибо нет ничего сравнимого с десятичной системой, и вспомни, в нашем пакте записано, что в Пуактесме все всегда должно считаться десятками.
После этого Мирамон сделал то, что требовалось, с несколькими желудями, и приливу ответил приглушенный гром. Так появился второй герой, помогающий им. Это был приятный на вид молодой человек с изумительно рыжей бородой. На плече у него висела корзина, и он держал в руке молот. Он ехал на повозке, запряженной четырьмя козлами.
– Ну, это определенно прекрасный дюжий воин, – говорит Мануэль, – и сегодня у меня счастливый день, и у этого румяного господина, надеюсь, тоже.
– Сегодняшний день – всегда его день, – ответил Мирамон, – и прекрати перебивать мои заклинания, а дай лучше вот эту флейту.
Поэтому Мануэль оставался молчаливым, как и пара чудовищных союзников, пока Мирамон делал еще одну любопытную вещь с флейтой и пальмовой ветвью. После чего появился герой янтарного цвета, одетый в темно-зеленое и держащий дубину и силок для душ умерших. Он прискакал на бизоне, а вместе с ним прибыли сова и голубь.
– Думаю…– сказал Мануэль.
– Ты не думаешь, – ответил Мирамон. – Ты лишь болтаешь и суетишься, поскольку взволновал внешностью своих союзников, а такая болтовня и суета весьма мешают художнику, стремящемуся оживить прошлое.
Сказав это, Мирамон с возмущением обратился к еще одному заклинанию. Оно вызвало героя в сияющей колеснице, которую везли алые кобылицы. У него были золотистые волосы, красные члены, и он был вооружен луком и стрелами. Он тоже молчал, но, когда он рассмеялся, стало видно, что у него несколько языков. За ним появился молодой блестящий человек, ехавший на кабане с золоченой щетиной и окровавленными копытами. Этот воитель держал в руке обнаженный меч, а у него за спиной, словно свернутый плащ, находился корабль, содержащий богов и всех живых существ. А шестым спасителем стал высокий, бесцветный, как тень, мужчина с двумя длинными серыми перьями, прикрепленными к бритой голове. Он держал скипетр и предмет, который, по словам Мирамона, назывался анх, а зверь, на котором он ехал, был дивен на вид. У него было тело жука с человеческими руками, голова барана и четыре львиных лапы.
– В общем, – сказал Мануэль, – я ни разу не видел подобного скакуна.
– Да, – ответил Мирамон, – да и никто не видел, так как это Сокрытый. Но прекрати же свою постоянную болтовню и передай мне соль и вон того крокодильчика.
С двумя этими вещами Мирамон обошелся так, чтобы вызвать седьмого союзника. Шею и руки этого героя обвивали змеи, и на нем было ожерелье из человеческих черепов. Его длинные черные волосы были весьма примечательно заплетены в косички. Шея у него синяя, а все тело мертвенно-бледное, кроме мест, посыпанных пеплом. Следующим, верхом на пятнистом олене, появился некто, наряженный в яркое желто-красно-сине-зеленое полосатое одеяние. Его лик мрачен, как туча, у него один большой круглый глаз; изо рта торчали белые клыки, и он держал в руке пестро раскрашенную урну. Его неописуемые спутники прыгали лягушками. Затем появился самый замечательный из всех воинов: с телом карлика и очень короткими ножками. У него огромная голова с черной бородой, плоский нос, а язык свешивался изо рта и болтался при движении. На нем был пояс и ожерелье, а больше ничего, кроме перьев ястреба, образующих своего рода головной убор. А ехал он верхом на громадной, лоснящейся пестрой кошке.
Теперь, когда эти необычные на вид союзники молча встали перед ними в ряд на берегу моря, дон Мануэль сказал с вежливым поклоном в сторону этого ужасного воинства, что, по его мнению, герцог Асмунд вряд ли будет в силах противостоять подобным спасителям. Но Мирамон повторил, что нет ничего сравнимого с десятичной системой.
– Тот мой брат, что является повелителем десятой разновидности сна, прекрасно бы завершил эту десятку, – говорит Мирамон, скребя подбородок, – если б у него только не было такой заурядной черно-белой внешности, не считая того, что он форменный скучный реалист, без намека на эстетическое чувство… Нет, я люблю цвета, и мы доберем войско на Западе!
Поэтому Мирамон занялся шариком из ярких перьев. Тут к ним верхом на ягуаре прибыл последний помощник, держащий большой барабан и флейту, из которой музыка исходила в виде языков пламени. Этот герой был совершенно черен, но раскрашен синими полосами, а по всей левой ноге у него росли золотистые перья. На нем была красная диадема в виде розы, короткая юбка из зеленой бумаги и белые сандалии. И он держал красный щит, в середине которого изображен белый цветок с четырьмя крестообразно расположенными лепестками. Таков был тот, кто стал десятым.
Теперь, когда эта жуткая десятка была набрана, повелитель семи безумий поджег пучок соломы и бросил его на ветер, сказав, что вот так гнев Мирамона Ллуагора должен пронестись над землей. Затем он повернулся к этим страшным десяти, которых он оживил на свалках и чердаках Врейдекса, и стало ясно, что Мирамон глубоко тронут.
Мирамон сказал:
– Вы, которых я создал для поклонения людей, когда земля была моложе и прекраснее, внимайте и узнаете, почему я вдохнул новую жизнь в сухие скорлупки со своих помоек! Боги старины, развенчанные, выброшенные, игравшие роль хлама, ищите самые последние следы людей, чьих отцов вы поддерживали! Они совершенно отказались от вас. Запомните, как насмехаются над вами:
«Старые повелители-скандалисты, которых чтили наши деды, погибли, если они на самом деле когда-либо были чем-то большим, нежели какими-то любопытными представителями, происшедшими из поисков наших дедов, стремившихся найти Бога в каждом ливне, питающем их ячмень, в приносящем жару солнце и в земле, дающей им жизнь. Даже при этом у них каждый час был связан с диковинными представлениями о Боге и умопомешательствами, относящимися к Божьей доброте. Мы – более благоразумные люди, ибо понимаем все в причудах погоды и никоим образом не находим их ошеломляющими. Что касается богов, которые, возможно, существуют, то они вежливы и оставляют нас в нашей жизни одних. А мы отвечаем взаимной вежливостью, зная, что делаемое нами на земле достаточно важно и требует безраздельного внимания».
Таковы люди, насмехающиеся над вами; таковы люди, пренебрегающие богами, которым придал вид Мирамон; таковы люди, с которыми сегодня вы вольны по моему разрешению обращаться, как подобает богам. Используйте же наилучшим образом свой шанс и опустошите весь Пуактесм к обеду!
Лица десяти сделались сердитыми, и они ужасно закричали:
– Блаерде Шай Альфенио Касбуе Горфонс Альбуй-фрио!
Они вдесятером уехали, двигаясь намного быстрее людей, и случившееся впоследствии в Пуактесме надолго стало историей весьма страшной, чтобы ее слушать, но которую тем не менее слушали повсюду.
Мануэль не был свидетелем событий, послуживших основой всех этих рассказов, а сидел в ожидании на берегу моря. Но землю тошнило, и рвота вздымалась под израненными ногами Мануэля, и он видел, что бледное, булькающее, блестящее море, похоже, подобострастно уползает от Пуактесма. А в Бельгарде, Нэме, Сторизенде и Лизуарте и во всех остальных укрепленных местах высокие воины Асмунда увидели тот или иной гневный лик, появившийся с моря, и многие умерли очень быстро, как всегда происходит, когда кто-либо возрождает заброшенные сновидения, и ни один из норманнов не умер в узнаваемом человеческом облике.
Когда до дона Мануэля дошли известия, что спасение Пуактесма завершено, он снял оружие и принял подобающий вид, надев белый камзол из камчатного полотна и пояс, украшенный гранатами и сапфирами. Через левое плечо он перекинул перевязь с бриллиантами и изумрудами, на которой висел незапятнанный кровью меч, которым он победил здесь так же, как и на Врейдексе. Поверх всего он набросил малиновую мантию. Затем бывший свинопас спрятал свои еще не до конца залеченные руки в белые перчатки, из которых одна была украшена рубином, а другая сапфиром, и со вздохом Спаситель Мануэль (как его звали впоследствии) вошел в свое царство, а жители Пуактесма приняли его с гораздо большей радостью, чем он их.
Так дон Мануэль оказался заточенным в собственном замке и в высшем сословии, откуда он не мог с легкостью освободиться, чтобы отправиться в путешествия, увидеть пределы этого мира и их оценить. И говорят, что Сускинд в своем низком дворце с красными колоннами удовлетворенно улыбнулась и приготовилась к будущему.
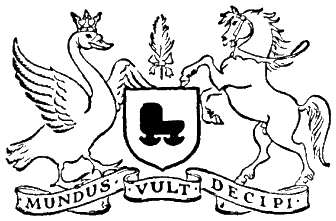
ЧАСТЬ V
Книга Итога
Так добродетельно и честно правил Мануэль вместе с благородной дамой, женою своею. И любили его и боялись люди высокого звания и низкого, ибо поступал он по правде и справедливости «согласно древним обычаям и нравам», сохраняя земли свои в достойном и надлежащем виде и занимая в свое время самое высокое положение.

Глава XXXIII
Процветание Мануэля
Пуактесме рассказывают прекрасные истории о деяниях, как совершенных Спасителем Мануэлем, так и тех, к которым он побуждал в дни своего правления. Также повествуется о множестве событий, которые кажутся невероятными и потому не включены в эту книгу. Старые песни и былины были склонны сделать из лучшей поры графа Мануэля необыкновенный золотой век.
В самом деле, Мануэлю и воинам, которых он собрал вокруг себя, – среди них Хольден, учтивый Анавальт, ольдермен Котт, Гонфаль и Донандр превосходили других, но все были отважны, – приписывалось такое множество славных подвигов, что трудно понять, как за такое короткое время произошло настолько много событий. Но пуактесмские сказители давно привыкли говорить о каком-либо прекрасном поступке, не имея намерения ввести в заблуждение: «Так бывало в дни графа Мануэля», что дань уважения вскоре стала восприниматься как датировка. Вот так хронология оказалась переиначена, его известность еще больше возросла, слава дона Мануэля стала магнитом, притягивающим к себе душевное величие других дней и лет.
Но здесь нет нужды говорить о подобных легендах, поскольку эти истории повсеместно записаны. Некоторые из них, возможно, правдивы; другие определенно нет. Но бесспорно, что власть, благосостояние и репутация графа Мануэля неуклонно росли. Теперь короли являлись его сотоварищами, и бывший свинопас каким-то образом оказался в числе уважаемых родственников императоров. А госпожа Ниафер, жена великого графа, повсюду признавалась, безо всякого опровержения с ее стороны, дочерью покойного варварийского султана.
Гуврич-Мудрец нарисовал древо, показывающее происхождение госпожи Ниафер от Каюмарса – первого из всех царей, первого, кто научил людей строить дома. И это древо висело в большом зале Сторизенда.
– Даже если тут и там могли вкрасться какие-то ошибки, – сказала госпожа Ниафер, – оно выглядит отлично.
– Но, моя милая, – сказал Мануэль, – твой отец не был варварийским султаном. Наоборот, он был помощником конюха в Арнейском замке, и вся эта родословная – нелепая фальшивка.
– Вот я и сказала, что тут и там могли вкрасться ошибки, – спокойно согласилась госпожа Ниафер, – но суть в том, что эта штука на самом деле отлично смотрится, и, полагаю, даже ты этого не отрицаешь.
– Нет, я не отрицаю, что эта красочная ложь подходит к интерьеру зала.
– Вот, ты же сам видишь! – победно заявила Ниафер, и после этого ее новое происхождение никогда не ставилось под вопрос.
А между тем дон Мануэль послал гонцов через моря и земли к своей единоутробной сестре Мафи в Рагнор, прося ее продать мельницу за сколько удастся. Она послушалась и привела ко двору Мануэля мужа и двух сыновей, младший из которых позднее стал Папой Римским. Мануэль пожаловал мельнику свободное поместье Монтор, и впоследствии никогда нельзя было найти более величавой и изысканной дамы, чем графиня Матфиетта де Монтор. Она по-прежнему постоянно говорила о том, что подобает ее родственникам при их положении, но уже совсем по-другому. И она поладила с Ниафер, как и можно было ожидать, но не больше.
А осенью первого года правления Мануэля (сразу после того, как дон Мануэль привез в Сторизенд Скотийский Сигил в качестве добычи после первой своей знаменитой схватки с Пловцом Ориандром) аист принес Ниафер первого из обещанных мальчиков. Из-за выражения лица его назвали Эммериком: в честь отца Мануэля. И именно этот Эммерик впоследствии долго и замечательно правил в Пуактесме.
Так что дела у дона Мануэля процветали, и ничто не тревожило его душевный покой, если б не чувство ответственности за культ Слото-Виепуса, поклонение которому теперь возрастало среди многих народов. В Филистии Слото-Виепусу теперь открыто поклонялись в залах суда и храмах, а все остальные вероисповедания и любое приличие были задушены обрядами Слото-Виепуса. Повсюду на западе и на севере его последователи произносили хвастливые речи и совершали безумные проделки, и вскоре все это принесло большой вред. Но если это втайне и тревожило дона Мануэля, граф здесь, как и везде, проявлял с лучшими намерениями свой бесценный дар держания языка за зубами.
Никогда не говорил он и о Фрайдис, хотя записано, что, когда пришли известия о ее кончине, в Тимхэре под игом друидов и сатириков, дон Мануэль молча зашел в Комнату Заполя и его не было видно целый день. То, что в подобном одиночестве он плакал, маловероятно, ибо его суровые ясные глаза забыли такое занятие, но весьма вероятно, что он многое вспомнил, и отнюдь не все, по его мнению, делало ему честь.
Так что дела у седого Мануэля процветали, и у него были высокие дворцы, прекрасные леса и пастбища, покой и довольство. Увенчивая все это, аист вскоре принес им вторую девочку, которую назвали Доротеей в честь матери Мануэля. И как раз в это время из Англии прибыл молодой поэт Рибо (вскоре после этого он плохо кончил в Ковентри), принеся дону Мануэлю, когда тот сидел вместе с женой и придворными за ужином, гусиное перо.
Граф улыбнулся, повертел его в руке и задумался. Пожав плечами, он сказал:
– Нужда требует. Если б не ее находчивость, моя голова была бы насажена на серебряную пику. Я не могу забыть этот долг, раз она, как теперь выясняется, не намерена его забывать.
Затем он сказал Ниафер, что должен отправиться в Англию.
Ниафер оторвалась от мармелада, которым заканчивала ужин, и невозмутимо спросила:
– И чего же теперь хочет от тебя твоя милая белобрысая подружка?
– Дорогая, если б я знал ответ на этот вопрос, не было бы необходимости путешествовать за море.
– Однако достаточно легко догадаться, – насупившись, сказала госпожа Ниафер, хотя, в сущности, она тоже гадала, зачем Алианора послала за Мануэлем, – и я вполне могу тебя понять, ведь ты предпочитаешь, чтобы люди не узнали о подобном и тебя не засмеяли.
Дон Мануэль ничего не ответил, но вздохнул.
– И если бы моему мнению в этом доме придавали хоть какое-то значение, я бы кое-что сказала. Но при сложившихся обстоятельствах более приемлемо позволить тебе идти своим практичным путем и узнать из опыта, что мои слова верны. Поэтому сейчас, Мануэль, если ты не против, нам лучше поговорить о чем-нибудь более приятном.
Дон Мануэль по-прежнему ничего не говорил. Все это, как отмечалось, происходило сразу после ужина, и, пока придворные и жена сидели за остатками еды, заиграл менестрель.
– Должна сказать, что ты не являешься чересчур веселым собеседником, – через некоторое время заметила Ниафер, – хотя ни на миг не сомневаюсь, твоя белобрысая подружка найдет тебя достаточно жизнерадостным…
– Нет, Ниафер, сегодня вечером я не так уж счастлив.
– Да? И чья это вина. Говорила же тебе не брать две порции бифштекса.
– Нет-нет, милая коротышка, меня мучает не желудок, но, скорее, музыка.
– Мануэль, как музыка может так беспокоить? Уверена, мальчик в самом деле играет на скрипке очень мило, особенно если учесть его возраст.
Мануэль сказал:
– Да, но долгие низкие рыдания скрипки, тревожащие так же, как и смутные мысли, порожденные этим временем года, когда лето еще не покинуло землю, но уже медленно умирает в своих разломанных гробницах, говорят о том, что было, и о том, что могло бы быть. Слепое желание, точно такое же, что раньше теплыми лунными ночами жаром пробегало по телу юноши, которого я помню, тщетно мучает седого мужчину серыми призраками бесчисленных старых горестей и маленькими жалящими воспоминаниями о давно умерших наслаждениях. От подобной жажды нет никакого толка степенным, стареющим людям, но мои уста жаждут уст, чья прелесть более не существует во плоти, и я жажду умершего времени и воскрешения умерших страстей, чтобы юный Мануэль вновь мог любить…
…Сегодня вечером, пока эта музыка неуверенно ощупывает своими пальцами залеченные раны, где-то некая стареющая женщина, совершенно мне не знакомая, точно так же задета за живое, тоже вспоминает наполовину забытое. «Мы прежде были едины, и наши сердца стучали в унисон, а наши юные губы и души были неразлучны, – по-моему, думает она именно так, – разве жизнь поступила честно, оставив нас бесцельно тратить время на полумеры и считать пустяком расчлененные жизни, ссыхающиеся отдельно друг от друга?» Да, вполне возможно, что сегодня вечером она так же грустна, как и я. Но я не могу быть в этом уверен, поскольку в юношеской любви есть великолепие настолько ослепительное, что мешает влюбленному отчетливо разглядеть свой предмет, а посему в то славное время, когда мы вместе служили любви, я узнал о ней не больше, чем она обо мне…