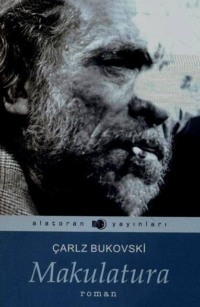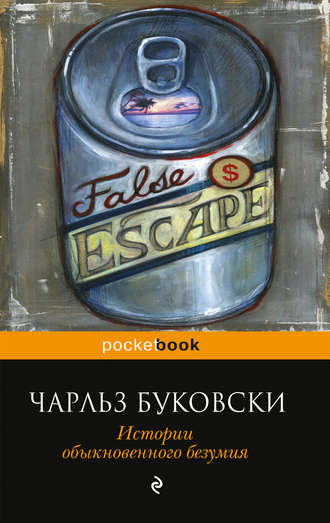
Полная версия
Истории обыкновенного безумия
– Годится, – сказал я.
Блейн подошел к птице и взял ее в руки. У него был маленький коричневый «Жиллетт». Он огляделся по сторонам. Все происходило в тенистом углу прогулочного дворика. День был жаркий, и там столпилось полно заключенных.
– Кто-нибудь хочет ассистировать мне во время операции, господа? – спросил Блейн.
Ответа не последовало.
Блейн принялся отрезать первую лапку. Сильные мужчины отвернулись. Я увидел, как один, а то и двое подносят ближайшую к птице руку к виску, отгораживаясь от этого зрелища.
– Что за чертовщина с вами творится, ребята? – прикрикнул я на них. – Нам надоело голубиное дерьмо в волосах и глазах! Мы накажем эту птичку так, что, когда зашвырнем ее обратно на крышу, она наверняка все другим птичкам расскажет: «Там внизу какие-то подлые распиздяи! Не приближайтесь к ним!» Этот голубь обязательно скажет другим голубям, чтобы те больше на нас не срали!
Блейн зашвырнул птицу на крышу. Я уже не помню, подействовало это или нет. Но помню, во время уборки моя щетка наткнулась на две голубиные лапки. Без приделанной к ним птицы они смотрелись очень странно. Я смел их вместе с говном.
IIБольшинство камер было переполнено, и там иногда происходили расовые беспорядки. Однако охранники были садистами. Они перевели Блейна из моей камеры в камеру, битком набитую чернокожими. Войдя, Блейн услышал, как один черный говорит:
– Ага, вот и мой малолеток! Да, сэр, из этого сопляка я сделаю своего малолетка! Да чего уж там,всем по кусочку хватит! Давай, крошка, раздевайся, или тебе помочь?
Блейн разделся и вытянулся плашмя на полу. Он слышал, как они ходят вокруг.
– Боже! Да я такого большеглазого УРОДА отродясь не видывал, ну и очко!
– Что-то не стоит у меня, помоги, никак не выходит!
– Господи, она похожа на тухлый пончик!
Все отошли, и тогда Блейн встал и снова оделся. В прогулочном дворике он сказал мне:
– Мне повезло. Они могли меня в клочья разорвать!
– Благодари свою уродливую задницу, – сказал я.
IIIЕще там был Сирз. Сирза запихнули в камеру к банде чернокожих, и он, оглядевшись, затеял драку с самым здоровенным из них. Тот укладывался спать. Сирз высоко подпрыгнул и обоими коленями опустился здоровяку на грудь. Они подрались. Сирз его отметелил. Остальные просто смотрели.
Казалось, Сирза вообще ничего не волнует. В прогулочном дворике он, мерно покачиваясь, сидел на корточках и дымил окурком. Он взглянул на одного чернокожего. Улыбнулся. Выпустил дым.
– Знаешь, откуда я? – спросил он чернокожего.
Чернокожий не ответил.
– Я из Ту-Риверса, Миссисипи. – Он затянулся, задержал дыхание, выдохнул, покачиваясь на корточках.
– Тебе бы там понравилось.
Потом он щелчком бросил окурок, встал, повернулся и зашагал через дворик…
IVЗадирался Сирз и к белым. У Сирза были престранные волосы: они, грязно-рыжие, казались приклеенными к голове и стояли торчком. На щеке шрам от ножа, а глаза большие, очень большие.
Нед Линкольн выглядел лет на девятнадцать, хотя было ему двадцать два – с вечно разинутым ртом, горбатый, с бельмом, наполовину закрывавшим левый глаз. Сирз заприметил малыша во дворике в его первый тюремный день.
– ЭЙ, ТЫ! – окликнул он малыша. Малыш обернулся.
Сирз нацелил на него указующий перст.
– ТЫ! Я ТЕБЯ ЗАМОЧУ, ПРИЯТЕЛЬ! ЛУЧШЕ ГОТОВЬСЯ, ЗАВТРА Я ТЕБЯ ПРИХЛОПНУ! Я ТЕБЯ ЗАМОЧУ, ПРИЯТЕЛЬ!
Нед Линкольн так и остался стоять, почти ничего не поняв. Сирз, словно обо всем позабыв, разговорился с другим заключенным. Но мы-то знали, что он все помнит. Таков уж был его метод. Заявление свое он сделал, и точка.
В тот вечер один из сокамерников сказал малышу:
– Лучше готовься, малыш, он не шутит. Лучше что-нибудь себе раздобудь.
– Что?
– Ну, если отодрать ручку от водопроводного крана и наточить острие о цемент, может получиться маленькая заточка. А хочешь, могу продать тебе за двушник настоящую классную заточку.
Заточку малыш купил, но на другой день остался в камере, на прогулку он не вышел.
– А сосунок-то испугался, – сказал Сирз.
– Я бы и сам испугался, – сказал я.
– Ты бы вышел, – сказал он.
– Я бы остался в камере, – сказал я.
– Ты бы вышел, – сказал Сирз.
– Ну ладно, я бы вышел.
На следующий день Сирз прирезал его в душевой.
Никто ничего не видел, разве что вместе с мыльной водой по водостоку текла чистая алая кровь.
VЕсть люди, которых вообще не сломаешь. Даже карцером их не проймешь. Таким был и Джо Стац. Казалось, он сидит в карцере вечно.
В конюшне начальника тюрьмы он был самой необъезженной лошадью. Сумей тот сломать Джо, его власть над остальными стала бы куда более ощутимой.
Как-то раз начальник привел двоих своих людей, те отодвинули крышку, начальник опустился на колени и сверху окликнул Джо.
– ДЖО! ДЖО, ТЕБЕ ЕЩЕ НЕ НАДОЕЛО? ХОЧЕШЬ ВЫЙТИ ОТТУДА, ДЖО? ЕСЛИ НЕ ЗАХОЧЕШЬ ВЫЙТИ СЕЙЧАС, ДЖО, ТОГДА Я ВЕРНУСЬ ОЧЕНЬ НЕ СКОРО!
Ответа не последовало.
– ДЖО! ДЖО! ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?
– Слышу, слышу.
– ТОГДА КАКОВ ТВОЙ ОТВЕТ, ДЖО?
Джо взял свое ведро с мочой и дерьмом и выплеснул содержимое в физиономию начальнику. Люди начальника задвинули крышку на место. Насколько я знаю, Джо до сих пор сидит внизу, живой или мертвый. О том, что он сделал с начальником, стало известно. Мы частенько думали о Джо, особенно ночами, после отбоя.
VIКогда я вышел, я решил, что надо немного обождать, а потом вернуться на это место, надо посмотреть на него снаружи и, точно зная, что за дела творятся там внутри, как следует разглядеть эти стены и дать себе слово никогда больше туда не попадать.
Но, выйдя оттуда, я так туда и не вернулся. Я так и не взглянул на те стены снаружи. Они как скверная баба. Возвращаться нет смысла. Даже смотреть на нее не хочется. Но о ней можно поговорить. Именно этим я сегодня какое-то время и занимался. Удачи тебе, друг, внутри ты или снаружи.
Дурдом немного восточнее Голливуда
Мне показалось, я слышу стук, посмотрел на часы – было всего лишь час тридцать дня, господи боже мой, я влез в старый халат (я всегда спал нагишом, пижамы мне казались нелепыми) и открыл одно из разбитых боковых окошек у двери.
– Ну что еще? – спросил я. Это был Безумец Джимми.
– Ты что, спал?
– Да, а ты?
– Нет, я стучал.
– Заходи.
Он приехал на велосипеде. И имел на голове новую панаму.
– Нравится моя новая панама? Тебе не кажется, что я просто красавец?
– Нет.
Он уселся на мою кушетку и давай смотреться в высокое зеркало позади моего кресла, то так, то сяк дергая свою шляпу. Он принес два бумажных пакета. В одном была непременная бутылка портвейна. Другой он опорожнил на низкий столик – ножи, вилки, ложки; маленькие куклы – за коими последовала металлическая птичка (бледно-голубая, со сломанным клювом и облупившейся краской) и прочие, не менее разнообразные виды хлама. Этим дерьмом – сплошь краденым – он торговал в разных хипповых и торчковых лавчонках на бульварах Сансет и Голливуд – то есть в бедняцких кварталах этих бульваров, где жил и я, где жили мы все. Точнее, мы жили поблизости – в полуразрушенных дворах, гаражах, на чердаках, а то и ночевали на полу у временных друзей.
Между тем Безумец Джимми считал себя художником, а я считал, что его картины никуда не годятся, и ему об этом сказал. К тому же он сказал, что и мои картины никуда не годятся. Не исключено, что правы были мы оба.
Но дело в том, что Безумец Джимми был и впрямь какой-то заебанный. Его глаза, уши и нос сплошь состояли из недостатков. В обоих ушных отверстиях какая-то сера; слизистая оболочка носа слегка воспалена. Безумец Джимми точно знал, что надо красть для продажи в этих лавчонках. Воришка из него вышел насколько превосходный, настолько же и мелкий. Но его дыхательная система: верхняя граница как правого, так и левого легкого – какие-то хрипы и гиперемия. Когда он не курил сигарету, он скручивал косяк или присасывался к своей бутылке вина. Систола на диастолу у него составляли 112 на 78, что давало сердечное давление в размере 34. С женщинами он был хорош, но содержание гемоглобина у него было очень низкое; кажется, 73, нет – 72 грамма на литр. Как и все мы, выпивая, он не закусывал, а выпить любил.
Безумец Джимми непрестанно возился перед зеркалом с панамой, издавая отрывистые благоговейные звуки. Он улыбался самому себе. Зубы его сплошь состояли из недостатков, а слизистые оболочки рта и гортани были воспалены.
Потом он отхлебнул вина из-под своей идиотской шляпы, а это заставило меня пойти и взять два пива для себя.
Когда я вернулся, он сказал:
– Ты дал мне новое имя – теперь я не «Сумасшедший Джимми», а «Безумец Джимми». Я думаю, ты прав – Безумец Джимми намного лучше.
– Но ты ведь и вправду сумасшедший, – сказал я ему.
– Откуда у тебя на правой руке эти две большие дыры? – спросил Безумец Джимми. – Похоже, все мясо сгорело. Даже кости почти видны.
– Я был под мухой, лежал в постели и пытался читать «Кенгуру» Д. Г. Лоуренса. Рука у меня запуталась в шнуре, я дернул, и прямо на руку свалился светильник. Пока я эту поебень отдирал, лампочка меня едва заживо не сожгла. Это была стоваттная лампа «Дженерал электрик».
– А к своему доктору ты ходил?
– Мой доктор плевать на меня хотел. Я только и делаю, что сижу у него, ставлю себе диагноз, назначаю лечение, а потом выхожу и расплачиваюсь с сестрой. Он меня просто бесит. Знай себе стоит и рассказывает о том, как служил в нацистской армии. Его, видишь ли, взяли в плен французы, а пленных нацистов они возили в лагерь в товарных вагонах, вот гражданское население и поливало ни в чем не повинных бедолаг бензином, забрасывало вонючими химическими гранатами и использованными презервативами с муравьиным ядом. Осточертели мне его россказни…
– Смотри! – воскликнул Безумец Джимми, показывая на столик. – Смотри, какое столовое серебро! Настоящая старина!
Он протянул мне ложку.
– Слушай, – сказал он, – твой халат обязательно должен так распахиваться?
Я швырнул ложку на столик.
– В чем дело? Ты что, никогда мужского члена не видел?
– Аяйца?! Они у тебя такие большие и волосатые! Жуть!
Я не стал запахивать халат. Не люблю, когда мне приказывают.
Опять он уселся и принялся теребить свою панаму. Ох уж эта его идиотская панама и его учащенная пульсация в точке Мак-Берни (как при аппендиците). К тому же под ребрами прощупывается мягкая нижняя граница печени. В селезенке сплошь недостатки. Воплощение недостатков и учащенной пульсации. Учащенно пульсирует даже треклятый желчный пузырь.
– Слушай, можно от тебя позвонить? – спросил Безумец Джимми.
– Звонок местный?
– Местный.
– Смотри у меня. А то прошлой ночью я едва четверых не прикончил. По всему городу за ними в машине гонялся. Наконец они подъехали к тротуару. Я остановился сзади и заглушил мотор. А у них двигатель так и работал, только до меня это не дошло. Когда я вышел, они поехали.Весьма огорчительно.
– Они что, звонили от тебя в другой город?
– Нет. Я их и знать не знал. Дело было совсем в другом.
– У меня разговор по местной линии.
– Тогда звони, мать твою.
Я прикончил первое пиво и с размаху зашвырнул пустую бутылку в большой деревянный ящик (размером с гроб), стоявший посреди комнаты. Хотя домовладелица выдавала мнедва помойных ведра в неделю, вместить туда весь мусор можно было, лишь разбив все бутылки. Я был единственным в округе обладателем двух помойных ведер, но ведь, как говорится, в своем деле каждый талантлив.
Одна неувязочка: я всегда любил ходить босиком, а часть стекла от битых бутылок все-таки летела на ковер, и осколки впивались мне в ноги. Это моего доброго доктора тоже бесило – каждую неделю приходилось выковыривать эту гадость, пока в приемной какая-нибудь милая старая дама помирала от рака, – вот я и научился самолично вырезать большие осколки, а тем, что помельче, предоставлял полную свободу действий. Конечно, если ты не слишком навеселе, ты чувствуешь, как они впиваются, итут же их достаешь. Это лучший вариант. Тотчас же выдергиваешь осколок, кровь бьет тонкой струйкой, как сперма, и ты чувствуешь, как в тебе начинает просыпаться герой – то есть во мне.
Безумец Джимми держал в руке телефонную трубку и с удивлением ее разглядывал.
– Она не отвечает.
– Тогда положи трубку, засранец!
– А телефон звонит себе и звонит.
– Последний раз говорю, положи трубку!
Он положил.
– Вчера ночью одна бабенка у меня на физиономии сидела. Двенадцать часов. Когда я из-под ее задницы выглянул, уже солнце вставало. Старина, у меня такое чувство, будто язык пополам разорван, такое чувство, будто язык раздвоен.
– Вот было бы классно!
– Ага. Я мог бы обрабатывать сразу две мох-натки.
– Вот именно. И Казанова бы в гробу обосрался.
Он возился со своей панамой. Что до прямой кишки, то у него обнаружились некоторые симптомы геморроя. Очень плотный ректальный сфинктер. Панамский Малыш. Простата несколько увеличена и мягкая на ощупь.
Потом бедный разъебай встрепенулся и вновь набрал тот же номер.
Он возился со своей панамой.
– Звонит себе и звонит, – сказал он.
Так он и сидел, вслушиваясь в гудки, скелетно-мышечная система напрочь заебана – я имею в виду дерьмовую осанку (кифоз). Не исключена аномалия на уровне пятого позвонка (поясничного).
Он возился со своей панамой.
– Звонит себе и звонит.
Я подошел и положил трубку. Потом я вскрикнул:
– А, черт!
– В чем дело, старина?
– Стекло! Всюду стекло на этом ебучем полу! Я стоял на одной ноге и выковыривал из другой стекло. На сей раз стеклышко было со вкусом. Оно задело фурункулы. Тут же хлынула кровь.
Я добрался до кресла, взял старую, заляпанную красную тряпку, которой обычно вытирал кисти, и перевязал ею свою кровоточащую пятку.
– Тряпка-то грязная, – сказал Безумец Джимми.
– Мозги у тебя грязные, – сказал я.
– Прошу тебя, запахни халат!
– Смотри, – сказал я. – Видишь?
– Вижу, вижу. Потому и прошу тебя его запахнуть.
– Ну ладно, черт с тобой.
Весьма неохотно я набросил халат на свои гениталии. По ночам гениталии может выставлять напоказ любой. В два часа дня пополудни для этого требовалась некоторая наглость.
– Слушай, – сказал Безумец Джимми, – тебе известно, что на днях в Уэствуд-виллидже ты обоссал полицейскую машину?
– А они-то где были?
– Ярдах в пятидесяти оттуда, о чем-то там договаривались.
– А может, дрочили друг другу?
– Может быть. Но этого тебе показалось мало. Тебе понадобилось вернуться и нассать на машину еще раз.
Бедняга Джимми. И впрямь заебанный. Первый, пятый и шестой шейные смещены.
К тому же наблюдалось ослабление связки правого пахового кольца.
А он еще был недоволен тем, что я обоссал полицейскую машину.
– Ну ладно, Джимми, по-твоему, ты выше всякого там дерьма, да? Со своим мешочком краденых безделушек. Так вот, я должен тебе кое-что сказать!
– Что? – спросил он, глядя в зеркало и вновь теребя панаму. Потом он присосался к своей бутылке вина.
–Тебя разыскивает суд! Может, ты и не помнишь, но ты сломал Мэри ребро, а через пару дней вернулся и вмазал ей по физиономии.
– Меня разыскивает? СУД? Э, нет, старина, ты же не хочешь сказать, что меня и вправду разыскивает СУД?
Я швырнул вторую бутылку в стоявший посреди комнаты огромный деревянный ящик.
– Да, мой мальчик, ты совсем спятил, тебе нужна помощь. А Мэри подала на тебя в суд за изнасилование и оскорбление действием…
– Что такое «оскорбление действием»?
Я засеменил за двумя новыми бутылками пива, вернулся.
– Слушай, засранец, ты прекрасно знаешь, что такое «оскорбление действием»! Ты же не всю жизнь катался на велосипеде!
Я посмотрел на Джимми. Кожа у него была немного суховата и утратила природную эластичность. К тому же я знал, что на левой ягодице (в центре) у него небольшая опухоль.
– Но я не могупонять, при чем тут СУД! Что за чертовщина?! Да, мы немного повздорили. Вот я и уехал к Джорджу в пустыню. Мы тридцать дней пили портвейн. Когда я вернулся, она принялась на меня ОРАТЬ! Видел бы ты ее! Ничего плохого я не хотел. Просто надавал ей по толстой заднице да по сиськам…
– Она боится тебя, Джимми. Ты больной человек. Я тебя хорошо изучил. Сам знаешь, когда я не дрочу и не валяюсь в отрубе, я читаю книги, самые разные книги. Ты умалишенный, друг мой.
– Но мы так с ней дружили! Она даже хотела поебаться с тобой, но с тобой она ебаться не стала бы, потому что любила меня. Так она мне сказала.
– Но, Джимми,когда это было! Ты не представляешь себе, как все меняется. Мэри – превосходная женщина. Она…
– Ради бога! Запахни халат! ПОЖАЛУЙСТА!
– Ого! Извини.
Бедняга Джимми. Его генитальная система – левый семенной канатик, да отчасти и правый – напоминают некий шрам или спайку. Вероятно, результат какой-то старой патологии.
– Я позвоню Анне, – сказал он. – Анна – лучшая подруга Мэри. Она должна знать. Зачем Мэри понадобилось подавать на меня в суд?
– Тогда звони, мать твою.
Джимми поправил перед зеркалом панаму, потом набрал номер.
– Анна? Джимми. Что? Нет, этого не может быть! Хэнк мне только что рассказал. Слушай, я в эти игры не играю. Что? Нет, ребро я ей не сломал! Я только надавал ей по толстой заднице и по сиськам. Ты хочешь сказать, онадействительно идет в суд? Ну а я не пойду. Я уезжаю в Джером, в Аризону. Снял жилье. Двести двадцать пять в месяц. Я только что нажил двенадцать тысяч долларов на продаже большого участка земли… Да заткнись ты, черт тебя подери, опять ты про этот СУД! Знаешь, что я сейчас сделаю? Я прямо СЕЙЧАС пойду к Мэри! Я поцелую ее и изжую ей все губы! Я один за другим съем все волоски на ее лобке! Плевать я хотел на суд! Я запихну ей в жопу, под мышки, промеж сисек, в рот, в…
Джимми взглянул на меня.
– Положила трубку.
– Джимми, – сказал я, – тебе надо промыть уши. У тебя обнаруживаются явные симптомы эмфиземы. Начни делать зарядку и бросай курить. Тебе необходимо лечить позвоночник. У тебя ослаблено паховое кольцо, поэтому старайся не поднимать тяжестей и не напрягаться при дефекации…
– Что за бред?
– Опухоль у тебя на ягодице напоминает веррукулез.
– Что это за веррукулез?
– Бородавка, мать твою.
– Сам ты бородавка, мать твою.
– Кстати, – сказал я, – где ты взял велосипед?
– У Артура. У Артура полно дряни. Пойдем к Артуру, курнем дряни.
– Не люблю я Артура. Он весь такой тонкий, обидчивый. Некоторые тонкие, обидчивые люди мне нравятся. Артур к ним не относится.
– На будущей неделе он едет в Мексику, на шесть месяцев.
– Многие из этих тонких, обидчивых типов вечно куда-нибудь едут. А что на этот раз? Субсидия?
– Да, субсидия. Но рисовать он не умеет.
– Знаю. Зато он лепит статуи, – сказал я.
– Не нравятся мне его статуи, – сказал Панамский Малыш.
– Слушай, Джимми, Артур мне, может, не нравится, но его статуи мне были очень близки.
– Но это же сплошь старье… дерьмо греческое… тетки с большими сиськами и толстыми жопами, в ниспадающих одеждах. Борцы, хватающие друг друга за члены и бороды. Что в этом хорошего, черт подери?
Итак, читатель, забудем на минутку о Безумце Джимми и займемся Артуром – что особого труда не составит, – я имею в виду еще и манеру, в которой пишу: я могу перескакивать с темы на тему, а вы можете скакать за мной, и все это не будет иметь никакого значения, сами увидите.
Так вот,секрет Артура состоял в том, что он лепил их слишком большими. Просто величественными. Весь этот ебучий цемент. Самые маленькие его мужчины и женщины маячили над вами на высоте восьми футов в солнечном или лунном свете, а то и в смоге – в зависимости от того, когда вы приходили.
Как-то ночью я пытался попасть к нему с черного хода, а кругом были все эти цементные люди, все эти огромные цементные люди стояли себе во дворе. Некоторые ростом футов двенадцать, а то и четырнадцать. Громадные груди, мохнатки, яйца, болты – по всему участку. Как раз перед этим я дослушал «Любовный напиток» Доницетти. Это не помогло. Все равно я казался себе кем-то вроде пигмея в аду. Я принялся орать: «Артур, Артур, помоги!» Но он тащился под травкой или чем-то еще, а может, это я тащился. Как бы то ни было, меня охватывает адский ужас.
Ну что ж, во мне шесть футов и 232 фунта, поэтому я попросту выполняю блокировку против самого здоровенного сукина сына.
Я напал на него сзади, когда он меня не видел. И он рухнул лицом вниз, я не шучу – он УПАЛ! Это слышал весь город.
Потом, просто из любопытства, я его перевернул и, само собой, отломал ему болт и яйцо, а другое яйцо аккуратно раскололось пополам; отвалился еще кусок носа и почти полбороды.
Я чувствовал себя убийцей.
Потом Артур вышел и сказал: «Хэнк, рад тебя видеть!»
А я сказал: «Извини за шум, Арт, но я наткнулся там на одного из твоих маленьких любимчиков, а у разъебая заплетались ноги, он рухнул и развалился на части».
А он сказал: «Ничего страшного».
Короче, я вошел, и мы всю ночь курили дрянь. А следующее, что я помню, – это встало солнце и я еду в своей машине – часов в девять утра, – причем ехал я, не обращая внимания ни на стоп-сигналы, ни на красный свет. Обошлось без происшествий. Мне даже удалось поставить машину в полутора кварталах от дома, где я жил.
Но, добравшись до своей двери, я обнаружил в кармане тот самый цементный член. Треклятая штуковина была не меньше двух футов длиной.
Я спустился вниз и сунул ее в почтовый ящик домовладелице, но при этом большая часть осталась торчать наружу – непреклонная и бессмертная, увенчанная громадной залупой елда ждала, как поступит с ней почтальон.
Ну ладно, вернемся к Безумцу Джимми.
– Но я серьезно, – сказал Безумец Джимми. – Я что,действительно нужен в СУДЕ? В СУДЕ?
– Слушай, Джимми, тебе действительно нужна помощь. Я отвезу тебя в Паттон или в Камарилло.
– Ах, надоела мне эта шокотерапия… Бррррр!!! Бррррр!!!
Безумец Джимми всем телом задергался в кресле, вновь проходя курс лечения.
Потом он поправил перед зеркалом свою новую панаму, улыбнулся, встал и опять подошел к телефону.
Он набрал номер, посмотрел на меня и сказал:
– Звонит себе и звонит.
Он просто положил трубку и набрал номер еще раз.
Все они приходят ко мне. Даже доктор мой мне звонит. «Христос был величайшим психоаналитиком, величайшей личностью – утверждал, что он Сын Божий. Вышвырнул из храма менял. Конечно, это было Его ошибкой. Его таки схватили за жопу. Даже ноги сдвинуть попросили, чтобы гвоздь сэкономить. Какое дерьмо».
Все они приходят ко мне. Есть один малый по фамилии то ли Ренч, то ли Рейн – нечто в этом роде, – так он всегда приходит со спальным мешком и грустной историей. Он кочует между Беркли и Новым Орлеаном. Туда и обратно. Раз в два месяца. И еще он сочиняет скверные, старомодные рондо. Каждый раз, как он приезжает (или, как у них принято говорить, «вламывается»), я попадаю на пятерку и (или) пару зелененьких, если не считать того, что он выпьет и съест. Я не против, но эти люди должны понять, что мнетоже
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.