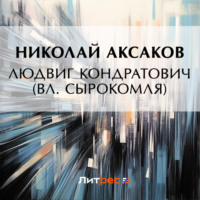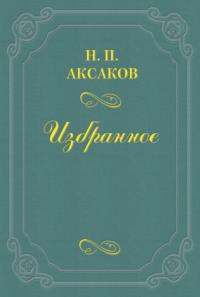полная версия
полная версияЛюдвиг Кондратович (Вл. Сырокомля)
Такія слова предпосылаетъ Сырокомля, въ видѣ вступленія, въ своей поэмѣ – «Янъ Денборогъ», воздвигая, такимъ образомъ, бытъ шляхетской семьи въ значеніе историческаго момента. Но главная сила исторіи представляется для Сырокомли въ силѣ нравственнаго преданія въ тѣхъ образцахъ великаго дѣла и великаго человѣка, которые изъ вѣка въ вѣкъ, отъ дѣда ко внуку, передаются, какъ непрекращающіе дѣйствованія своего примѣры.
Лишь развернешь скрижаль былыхъ вѣковъ, Тамъ, что ни листъ, гигантъ духовный встанетъ, Повсюду свѣтъ превыспреннихъ умовъ, И – то герой, то богатырь возстанетъ, Хранитъ о нихъ легенды старина, Имъ молятся, ихъ чтятъ въ благоговѣньи, И, можетъ быть, въ десятомъ поколѣньи Въ честь ихъ дѣтямъ даются имена.Настоящее пугаетъ Сырокомлю отсутствіемъ этого именно, сосредоточеннаго въ одномъ человѣкѣ, выработаннаго однимъ человѣкомъ величія. Все есть въ тебѣ, восклицаетъ онъ обращаясь къ Литвѣ и исчисляя ея богатства:
Все есть въ тебѣ, что было съ древнихъ лѣтъ, Но лишь людей великихъ больше нѣтъ;и затѣмъ тотчасъ же, пытается найти утѣшеніе въ предположеніи, что
Для нашихъ дней, не нужно ихъ, быть можетъ: Взамѣнъ людей нашъ цѣлый вѣкъ великъ; А все-жъ порой раздуміе встревожитъ, И къ небесамъ съ мольбой подъемлеть ликъ: «О, Боже! гдѣ-жъ тѣ мужи мощной силы «Съ душой, какъ сталь, и съ грудью, какъ гранитъ? «Пусть вызоветъ Твой зовъ ихъ изъ могилы, «Пусть голосъ ихъ изъ гроба прозвучитъ, — «Чтобъ мы хоть разъ одинъ лишь въ цѣлой жизни «Великаго увидѣли въ Отчизнѣ!»Народъ на всѣхъ ступеняхъ своего развитія является, однако, не только кователемъ, дѣятелемъ собственной исторіи, но онъ, же впервые отмѣчаетъ и то, что совершается въ жизни дорогаго для него, великаго въ его воззрѣніи, является первымъ своимъ исторіографомъ. Исторіографія эта совершается, конечно, совершенно особеннымъ путемъ или, точнѣе, совершается многими отличными другъ отъ друга путями. Монахъ лѣтописецъ или, кто бы онъ ни былъ, иной записыватель жизни народной выступаетъ на поприще свое только тогда уже, когда отмѣтились, оцѣнились въ народномъ сознаніи нѣкоторыя событія народнаго прошлаго, когда тайная, умственная, если можно такъ сказать, исторіографія уже получила свое начало. Даже пѣсня не выступаетъ первымъ историческимъ памятникомъ; она налагаетъ художественный чеканъ свой только тогда, когда событіе уже, такъ или иначе, отмѣчено въ духѣ народномъ, когда созрѣла и опозналася потребность передавать память о немъ изъ поколѣнія въ поколѣніе.
Ахъ, Литвина даромъ пѣсни Богъ не наградилъ: Камень – памятникъ въ отчизнѣ пѣсню замѣнилъ. Что же въ камнѣ? Онъ погибнетъ, онъ во прахъ падетъ, Можетъ быть, пойдетъ на жерновъ, мохомъ заростетъ, И преданіе погибло… А для струнъ пѣвца, Что за творческое поле, поле безъ конца — Пѣть кресты, курганы наши и гроба князей Отъ Мендоговой могилы и до нашихъ дней.Камнемъ или другимъ какимъ либо вообще неодушевденнымъ предметомъ отмѣчалися, какъ признается это и самою наукою, первыя событія народной жизни, касающіяся всего народа или какого либо изъ обособленныхъ его членовъ, и отмѣчалися все съ одною и тою же цѣлью – сохранить, укрѣпить за потомствомъ память о совершившемся. Строились ли пирамиды изъ камня, кирпича или череповъ человѣческихъ, воздвигались ли грубо отесанные изъ камня мавзолеи, мирные кресты или другіе какіе либо символы прошлаго, высѣкались ли надписи на горныхъ уступахъ или столбахъ на римскихъ и греческихъ площадяхъ – всегда преслѣдовалась одна и таже задача – закрѣпить вѣковѣчнымъ символомъ, вѣковѣчнымъ намекомъ переходящее изъ устъ въ уста преданіе, чтобы достигалась вѣчная память событія или человѣка, чтобы молва потомства
Однихъ хвалой безмертной увѣнчала, Другихъ покрылъ безславія позоръ.Камень или всякій вообще монументъ, какъ бы простъ и даже безформенъ онъ ни былъ, является, такимъ образомъ, символическимъ укрѣпленіемъ преданія, намекомъ для передачи сохраняющихся изъ рода въ родъ воспоминаній, которыя безъ этого намека легко могли бы изгладиться, безъ слѣда исчезнуть; это, такъ сказать, – исторіографія втораго порядка, исторіографія, ведшаяся всегда и ведущаяся постоянно. Пусть передается исторія прошлаго письменами, лѣтописью, мемуарами и т. п., устное преданіе еще не замираетъ.
И селянинъ неграмотный для внука Другимъ путемъ хранитъ о прошломъ вѣсть. Ему ль писать? Чужда ему наука, А все жъ въ душѣ глубоко жажда есть, Чтобъ чуждый гость иль сынъ того жъ селенья Узналъ о томъ, что было здѣсь давно, И чтобъ навѣкъ избавить отъ забвенья Все то, что здѣсь въ землѣ погребено. Онъ не пестритъ пергаментъ письменами, Но крестъ беретъ и горсть земли родной, И старина нетлѣнными чертами Возносится къ лазури голубой. А вдоль, села прохожій дѣдъ порою, На костылѣ пройдетъ къ рядамъ могилъ, И, предъ крестомъ поникнувъ головою, Рѣчь поведетъ о прошломъ старожилъ. Латынь не сыщетъ, въ юношахъ вниманья, — Пергаментъ стлѣетъ, лѣтопись сгніетъ, Крестами же гласимыя преданья Ничто во вѣкъ въ потомствѣ не сотретъ. Падетъ ли крестъ – другой съ нимъ рядомъ встанетъ, Умретъ ли дѣдъ – другой бредетъ туда, А молодость въ разспросахъ не устанетъ, Готовъ боянъ и слушатель всегда. Такъ переходитъ лѣтопись живая Изъ рода въ родъ, вѣка передавая.Совершенно понятно, что при подобномъ измѣненномъ и расширенномъ представленіи объ исторіи и ея факторахъ, равно какъ и объ источникахъ, изъ которыхъ она воспроизводится, долженъ былъ расшириться и получить иное значеніе и самый ея объемъ и содержаніе, измѣниться и самый историческій критерій. Событія и лица, проходящія черезъ исторію, получили иную совершенно оцѣнку, потону что стали измѣряться не по какой либо отвлеченной программѣ, хотя бы и истоірически укоренившейся, а по отношенію ихъ ко всей совокупности народа, вѣчно забитаго и забытаго въ польской исторіи. Сырокомля смотритъ на историческую жизнь изъ среды самаго пережившаго и переживающаго ея народа, а не изъ партіи, сословія или таинственнаго западнаго далека, а потому и естественно, что онъ видитъ яснѣе и притомъ, въ болѣе правильномъ свѣтѣ. Мы приведемъ только два примѣра этого измѣнившагося историческаго сознанія.
Во всѣхъ обильныхъ пѣснопѣніяхъ Сырокомли нѣтъ положительно ни одного, которое выражало бы сколько нибудь вражду къ Россіи и русскому народу. Въ исторической поэмѣ «Три Литвинки», весьма близкой по содержанію къ извѣстной балладѣ Мицкевича «Будрысъ», къ старому литвину являются поочередно витязи нѣмецкій, русскій и польскій и въ то самое время, когда каждое упоминаніе о нѣмцѣ сопровождается какимъ-нибудь не слишкомъ лестнымъ для него эпитетомъ, поляка съ его дружиною вождь сѣдой ласкаетъ,
За одно укоряетъ. «Что вы Нѣмцевъ въ конецъ не побили!»и къ гостю изъ Кіева-града относится Литвинъ съ полнымъ радушіемъ, безъ всякихъ проявленій племенной вражды. Сочувственныхъ выраженій объ Украинѣ можно бы набрать безчисленное количество, да и эпилогъ «Ночлега гетмана» служитъ достаточнымъ, самъ по себѣ, доказательствомъ. Даже казакъ 12-го года – это все европейское пугало является въ поэмѣ «Власъ» освѣщеннымъ нравственнымъ чувствомъ, хотя имъ и избивается польская банда. Сырокомля преклонялся передъ кобзарями Украины и преимущественно передъ Шевченкой. Онъ былъ друженъ съ русскимъ поэтомъ Мейемъ и переводилъ много изъ русскихъ поэтовъ – Лермонтова, Некрасова и др., точно также, какъ переводилъ много изъ «Кобзаря» Шевченки.
Но измѣнившееся историческое сознаніе сказывалось не только отрицательнымъ, а и положительнымъ также образомъ у Сырокомли. Вотъ для примѣра его сужденіе о Наполеонѣ, за которое ему, конечно, много доставалось отъ соотечественниковъ. Сырокомля высказываетъ, впрочемъ, сужденіе свое не объ одномъ только Наполеонѣ, а обо всей его эпохѣ и увлеченіяхъ, которыя ее сопровождали.
Бурно, кроваво, съ неистовымъ жаромъ Всюду война разливалась пожаромъ. Гальскій диктаторъ въ гремящихъ словахъ Началъ поэму о грозныхъ дѣлахъ. Армію бралъ онъ для строчекъ поэмы, Тысячи войскъ для куплетовъ и темы; Сердце въ немъ пушечной билось пальбой, Стало полміра бумагой простой, Гдѣ исписалась поэма большая, Каждая строчка вполнѣ мастерская… Смыслъ ее пламенемъ адскимъ дышалъ; Много великаго онъ написалъ…. Римъ зачеркнулъ онъ чертою кровавой, Переступилъ черезъ Альпы со славой, На пирамиды взоръ гордый навелъ, Страны Германскія дважды прошелъ, Гордой стопою попралъ Пиринеи, Въ людяхъ надежды зажегъ и идеи, Шествуя грознымъ, кровавымъ путемъ….. Божье призваніе видѣли въ немъ…. Нѣтъ! это просто дорогой избитой Шелъ въ полубоги титанъ знаменитый… Грозной поэмы, дышавшей огнемъ, Строй увѣнчался обычнымъ концомъ: Спѣсь лишь въ права свои гордо вступила, Творчество-жъ Божіе чуждо ей было, Чуждо въ напыщенныхъ фразахъ пустыхъ, Чуждо въ раскатахъ громовъ боевыхъ…..«Всемірный идолъ» сокрушился, понизился въ глазахъ Сырокомли потому, что къ ходу историческихъ событій онъ примѣнилъ иную оцѣнку; иной критерій, такъ какъ смотрѣлъ на нихъ изъ среды народа во всей его совокупности, чуждаясь отвлеченно урѣзаннаго его кругозора.
Воззрѣнія Сырокомли на отечество и его значеніе имѣли, однако, и свою слабую сторону, которая не можетъ ускользнуть отъ взгляда даже и поверхностнаго наблюдателя. Эта сторона выражается прежде всего въ чисто областномъ, помѣстномъ, а потому и чисто субъективномъ характерѣ его патріотизма, весьма близко приближающемся къ тому, что французы остроумно называютъ – patriotisme de clohet или къ тому, что подъ именемъ Heimweh – тоски по мѣсту рожденія обращается въ физическую болѣзнь для нѣкоторыхъ горныхъ племенъ, напр. швейцарцевъ. Отчизна мила и дорога намъ потому, что мы въ ней родились и жили, потому, что съ нею неразрывно соединены всѣ воспоминанія, въ которыхъ играемъ мы сами живую, дѣятельную роль. И воспоминанія эти не должны еще быть непремѣнно веселыми, радостными; край родной можетъ быть дорогъ намъ и какъ товарищъ грустнаго, тяжелаго прошлаго.
Но отчего же Память о дальнемъ, минувшемъ моемъ Блещетъ плѣнительнымъ, свѣтлымъ вѣнцомъ? Въ этомъ сіяньи встаютъ, какъ живыя, Тѣни минувшаго, тѣни родныя…. Край, увидавшій мой первый разцвѣтъ, Больше возврата куда уже нѣтъ…. И уношусь я сквозь дымку былаго Къ кровлѣ завѣтной жилища роднаго, Къ камнямъ знакомымъ родимыхъ церквей, Къ вѣтру, что дуетъ съ родимыхъ полей…. Свѣтлыхъ видѣній встаетъ вереница: И голоса и знакомыя лица Тѣхъ, съ кѣмъ такъ близко когда-то я жилъ, Хлѣбъ ѣлъ по-братски и пищу дѣлилъ.Мы совершенно согласны, что этотъ патологическій патріотизмъ, художественно изображенный въ грустной поэмѣ «Янко Кладбищенскій», составляетъ необходимое послѣдствіе, а отчасти даже и условіе всякаго истиннаго патріотизма; но у Сырокомли онъ является слишкомъ уже господствующимъ, и причина этого таится въ другой слабой сторонѣ воззрѣній поэта нашего на родинѣ, о которой и скажемъ мы нѣсколько словъ.
Отчизна Сырокомли, помимо тѣхъ отдѣльныхъ мѣстностей, которыя дороги ему по особымъ воспоминаніямъ собственной его жизни, всюду представляется для него какимъ то сборищемъ, конгломератомъ отдѣльныхъ областей и племенъ, не связанныхъ между собою иною связью, кромѣ служенія одной общей отвлеченной, политической единицѣ. Понятіе объ отечествѣ является для него повсюду понятіемъ сборнымъ, составнымъ. Приведемъ примѣры:
Подъ знамя Рѣчи Посполитой Собрался по зову цѣлый рядъ дружинъ! И плечистый русинъ, Украины сынъ, Изъ очей глубокихъ молнію метавшій, И литвинъ косматый, надъ лукой припавшій, Какъ скала безмолвный, твердый, какъ скала. Далѣе шли дѣти одного угла; Изъ великой Подыми съ пламенною кровью, И карпатскій городъ. Первый онъ съ любовью, На лету схватившій гетманскій сигналъ, Ринется въ сраженье, какъ съ горы обвалъ, А когда въ огнѣ онъ дрогнетъ и смутится, Можетъ на Литвина смѣло положиться. Видно такъ устроенъ цѣлый Божій свѣтъ; Каждый край имѣетъ даръ свой: если нѣтъ У однихъ умѣнья, тамъ сосѣдъ поможетъ, И одинъ другаго выручитъ, гдѣ можетъ, Такъ сливаясь вмѣстѣ, дружествомъ сильна, Изъ частичекъ разныхъ цѣлая страна Въ родину святую можетъ обратиться — И единымъ сердцемъ начинаетъ биться, И равно несутъ всѣ общую бѣду, Радости и горе, дружбу и вражду.Эти слова приводимъ мы изъ помянутой уже нами поэмы «Ночлегъ гетмана», но такія же точно мысли выражаются и въ поэмѣ «Староста Копаницкій» и во многихъ другихъ произведеніяхъ Сырокомли. Отчизна каждаго есть родная его деревня, родной его очагъ; – отчизна общая – отвлеченное понятіе, нѣчто, чуждое реальности и дѣйствительной жизни, существующее только во времени, условно и искусственно.
Совершенно понятно, что такая отчизна не можетъ высвободиться изъ, области отвлеченной теоріи, сдѣлаться живою, жизненною силой. Такой патріотизмъ, хотя и можетъ быть мощною политическою силой, но никогда не можетъ имѣть воздѣйствіе на жизнь и развитіе самаго народа.
Совершенно понятно, что въ этой узкости понятія объ отчизнѣ виноватъ отнюдь не самъ Сырокомля, а неправильный ходъ исторической жизни его народа, историческія судьбы и историческія ошибки. Поэтическій размахъ Сырокомли даже пытается по временамъ пополнить этотъ пробѣлъ народности, но создавать жизнь въ настоящемъ или прошедшемъ не суждено творческой дѣятельности какого бы то ли было поэта, и пробѣлъ сказывается и въ собственной его, свободной отъ безчисленнаго количества историческихъ предразсудковъ, душѣ. Служеніе абстрактнымъ теоріямъ погубило его народность и на немъ самомъ наложило свой отпечатокъ. Сырокомля свободнѣе отъ него, чѣмъ кто бы то ни было, и поэзія его, разумѣется, не пропадетъ безслѣдно для исцѣленія историческихъ недуговъ братскаго намъ народа его. Будемъ же надѣяться, что и ему суждено пробудиться къ «жизни духа, и къ духу жизни», по выраженію нашего русскаго поэта.
Теперь, разсмотрѣвъ послѣдовательно другъ за другомъ всѣ выступающія, характеристическія стороны поэзіи Сырокомли, мы можемъ, въ заключеніе принятой нами на себя задачи, вкратцѣ, воспроизвести передъ глазами читателей самую, если можно такъ выразиться, механику его творчества, внутреннюю логику его души, благодаря которой поэзія его сдѣлалась такою, какою она была въ дѣйствительности и какою она представляется намъ. Намъ приходится для того только резюмировать съ строгою послѣдовательностью все, до сего времени нами уже сказанное.
Творчество является для Сырокомлй не принужденнымъ или искусственнымъ; оно составляетъ непосредственное послѣдствіе всей внутренней, духовной его жизни, которая ищетъ выразиться, сказаться словами.
Но эта потребность не составляетъ какой-либо особенной привилегіи души поэта; она, въ больей или меньшей степени, составляетъ потребность всякого человѣка; поэту присуща только способность соотвѣтствующаго художественнаго выраженія, тогда какъ для другихъ и горе, и радость, остаются, зачастую, нѣмыми, затаенными. Поэтъ въ чувствахъ своихъ сочувствуетъ міру и, выражая свои чувства, совершаетъ вслѣдствіе того общественное служеніе, давая языкъ и чувству другихъ.
Чьи же чувства и стремленія выражалъ Сырокомля, или вѣрнѣе, чьи чувства и стремленія наполняли собственную его душу? Чувства ли партіи, извѣстнаго класса общества, извѣстнаго кружка и т. п.?
Нѣтъ! въ творчествѣ Сырокомли высказывались чувства и стремленія всего народа его, во всей его совокупности, даже до послѣдняго хлопа, забытаго польской исторіей.
По этой причинѣ, чувство его, какъ не сдерживаемое, не ограниченное никакою условностью, получаетъ особенную чистоту, искренность и силу, и эта же чистота, искренность и сила отражаются на самыхъ произведеніяхъ его творчества.
По этой же самой причинѣ, весь народъ его, во всей совокупности, становится его сотрудникомъ, предоставляя въ распоряженіе его весь накопившійся запасъ преданія, всю сокровищницу чувства, все обиліе и роскошь образовъ, красокъ и звуковъ.
Такимъ образомъ, выработана была Сырокомлею та эстетика, которой является онъ для насъ обладателемъ; такимъ образомъ, пріобрѣлъ онъ весь многообразный матеріалъ для своего творчества, могъ видѣть и слышать то, что онъ видѣлъ и слышалъ, и воспѣть то, что онъ воспѣлъ. Такимъ только образомъ, могъ онъ возвыситься до значенія истиннаго народнаго поэта и смѣло высказывать надежду на благодарную память потомства.
Чародѣйная лира! Пусть не знаю я мира И живу слезъ отравой; Но въ тебѣ чту я силу, а сойду я въ могилу, Ты моей будешь славой. Поплывутъ твои звуки, будутъ знать ихъ и внуки, И чужда ей преграда. Моя пѣсня иная долетитъ до Дуная И до Кіева града, И въ село, можетъ статься, будутъ въ окна стучаться Пришлецы, узнавая «Гдѣ здѣсь спитъ подъ курганомъ вашъ пѣвецъ? Дорога намъ Его пѣсня живая».…… И гостей съ пепелища поведутъ на кладбищѣ И подъ деревомъ старымъ Скажутъ: «Здѣсь легъ рабъ Божій, нашъ гусляръ перехожій! Онъ всю жизнь былъ гусляромъ.Уже на примѣрѣ Сырокомли видимъ мы великое значеніе народности для историческаго творчества. Только одна народность можетъ придавать чувству и его выраженію истинную непосредственность, отрѣшать ихъ отъ всякой дѣланности и искусственности; только одна народность предоставляетъ сама собою готовый матеріалъ для творчества, а не заставляетъ занимать его въ качествѣ чужаго добра. Занятое добро никогда не можетъ сдѣлаться вполнѣ своимъ. Сюжеты для творчества изъ древняго или вообще не нашего міра, только тогда вполнѣ достигаются нами, только тогда дѣлаются вполнѣ нашимъ достояніемъ, когда мы, хотя временно, живемъ духомъ въ народѣ, который когда-то ихъ произвелъ. А чтобы понять, что значитъ жить духомъ въ народѣ, намъ чуждомъ, чтобы переносить въ него духъ свой со всѣми его отношеніями, надо уже предварительно испытать духовную жизнь въ народѣ, жить духомъ въ народѣ своемъ.
Если предполагаютъ, что слова наши отзываются духомъ какого-то крайняго направленія, на которое вообще привыкли у насъ сваливать слишкомъ многое, то пусть прочтутъ хотя-бы статью Бѣлинскаго, (котораго въ этого рода крайности ни коимъ уже образомъ нельзя заподозрить). «Объ общемъ и народномъ въ искусствѣ», помѣщенную въ пятомъ томѣ его сочиненій.
Но народность не надѣвается поэтомъ, какъ римская тога или греческій палій, въ которые облекались когда-то представители псевдо-классическаго направленія; она не дается однимъ только этнографическимъ походомъ, не вырабатывается искусственно, не «разгадывается по книгамъ мудрецовъ», какъ и всякая вообще тайна поэзіи. Не спуститься только въ народъ долженъ поэтъ-художникъ, не его силиться поднять до себя, а возвысить себя до народа въ полномъ и совершенномъ смыслѣ этого слова. Разрѣшеніе этой таинственной задачи достигается только самою жизнью, и его-то отчасти достигнулъ нашъ Сырокомля.
Николай Аксаковъ.«Русская Мысль» 1880, № 1Примечания
1
Мы вовсе, однако, не намѣреваемся отрицать, что многія изъ такъ называемыхъ европейскихъ понятій, – научныхъ, бытовыхъ и государственныхъ, представляютъ сами до себѣ, совершенно обязательную силу, и принятіе ихъ отнюдь не нарушаетъ самостоятельности народнаго духа, разумѣется, смотря по тому, какъ совершается самое это принятіе. Но общность, и потому, и обязательность понятій этихъ вытекаетъ вовсе не изъ европейской ихъ распространенности и европейскаго происхожденія, а изъ отвлеченно-разумной ихъ оцѣнки, которая одна можетъ дѣлать ихъ общими и обязательными. Гдѣ разумъ вступаетъ въ полныя свои права, тамъ уже не можетъ быть рѣчи обѣ авторитетахъ, – все равно, будетъ ли такимъ авторитетомъ индивидуумъ, народъ или искусственно составленное понятіе объ европеизмѣ и человѣчествѣ. Гдѣ дѣйствуетъ разумъ, тамъ общность является сама собой, и нѣтъ необходимости стѣснять просторъ его подчиненіемъ какому бы то ни было авторитету, для того, чтобы не нарушалось единство. Единство окажется само собою, окажется свободно, но стѣсненіе авторитетами, какъ бы высоки сами по себѣ они ни были, или рамками, какъ бы широки не были эти рамки, мертвитъ и уничтожатъ свободную дѣятельность человѣка точно такъ же, какъ и народа. Ссылка на европеизмъ, какъ на эмпирическое указаніе, эмпирическое данное, то же самое, что ссылка на Аристотеля во времена схоластики, – схоластическое «jurare ad verba magistri» – тѣснящее и уничтожающее всякую свободную мысль. Несвободной же мысли быть, разумѣется, не можетъ; она была бы логической нелѣпостью.
2
Прим. ред. это стихотвореніе, какъ и многія другія, изъ которыхъ авторъ приводитъ цитаты, въ переводахъ гг. Минаева и Пальмина, не были еще напечатаны и войдутъ во второй тонъ изданія «Избранныхъ стихотвореній» Людвига Кондратовича.