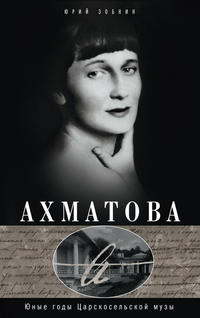Полная версия
Николай Гумилев

Юрий Зобнин
Николай Гумилев
Майе Леонидовне Ивановой – первой читательнице этой книги
…От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5: 1–5).
Часть первая
Глава первая
Persona non grata
I
9 января 1951 года у себя дома, в квартире ленинградского писательского дома-коммуны на ул. Рубинштейна, 7, была арестована дочь известного фотохудожника, секретарь поэтической и драматургической секции Ленинградского отделения Союза писателей Ида Моисеевна Наппельбаум. Следствие по ее делу продолжалось более девяти месяцев. И действительно, даже на фоне весьма оригинальных процессов той строгой поры, этот оказывался выходящим вон из мыслимого вообще в юриспруденции ряда.
«…Два ленинградских писателя, “друга семьи”, – вспоминала много позже И.М. Наппельбаум, – положили на стол свидетельства, что они видели у меня дома на стене крамольный портрет поэта Николая Степановича Гумилева. <…> Я удивлялась, что меня ни разу не спросили, куда девался портрет. Дело шло как по маслу. Я ничего не отрицала. Их интересовало, каков был портрет, его размеры, даже краски. Я описала его с удовольствием, восстанавливая в своей памяти. Только удивлялась бессмысленности всего этого» (Наппельбаум И.М. Портрет поэта // Литератор (Л). 1990. 30 ноября. (№ 45 (50)). С. 6). Удивление Иды Моисеевны понять можно – пресловутый портрет, созданный в незапамятные 1920-е годы художницей Н.К. Шведе-Радловой, был уничтожен в 1937 году, четырнадцать лет тому назад.
Следователей, однако, это не смущало. Более того, «следствие даже не поинтересовалось ни моими отношениями с поэтом, ни нашей дружбой, поэтическими встречами, разговорами в студии при доме искусств и у меня дома. Достаточно было наличия в квартире портрета расстрелянного поэта, чтобы признать меня преступницей». Приговор – десять лет в закрытом лагере особого режима.
Задумаемся. Портрет – это не стихи, в которых могут быть враждебные властям сентенции, и не документы, могущие содержать антисоветскую информацию. Портрет – произведение изобразительного искусства, поддающееся всегда весьма вольной интерпретации, и к тому же, коль скоро речь идет о кисти достаточно известного мастера, – недешевое. В конце концов, находилось же и в советские времена в экспозиции Русского музея знаменитое репинское полотно, изображающее заседание Государственного совета, – так на нем и Государь Император Николай Александрович присутствовал собственной персоной, и Константин Петрович Победоносцев, и мало ли кто еще, точно не вызывающие у коммунистических властей прилива нежных чувств. И смотрел ту картину всякий кому не лень и… ничего. Не арестовывали администрацию Русского музея и бабушек из репинских залов в Сибирь не ссылали. А ведь тут еще не надо забывать, что и портрета-то никакого, в сущности, нет. Так, был когда-то, а сейчас даже сама бывшая владелица вынуждена долго восстанавливать его в памяти, понуждаемая настоятельными вопросами следователей: уж больно много воды утекло… И праха его нет, и следа.
Тут еще надо учитывать вот что. Если дело И.М. Наппельбаум нужно было срочно «сфабриковать» (а так оно и было в действительности, ибо сам следователь честно признался, что ее попросту «не добрали в 1937-м»), то к услугам ленинградских сотрудников МГБ был в 1951 году, надо думать, обильнейший материал, ибо, начиная с 1920-х годов вокруг подследственной «враги народа» кишели кишмя. Ида Моисеевна была знакома чуть ли не со всеми литераторами и общественными деятелями, затем большей частью ушедшими либо в эмиграцию, либо в лагеря. Так вот, по меркам тогдашних специалистов из Государственной безопасности факт хранения (пусть и в давнем прошлом) портрета Гумилева (пусть и несуществующего уже в реальности) перевешивал по своей «криминальной» значимости знакомство хоть с тьмою тьмущей «врагов народа» и очевидное обращение через подследственную целых библиотек антисоветчины. «Шить» хранение портрета Гумилева было в данном случае вернее, нежели все прочее. Там, надо полагать, по мнению следственных органов 1950-х годов, еще можно было как-то вывернуться, здесь – невозможно никак.
Можно теперь оценить, так сказать, степень неприятия Гумилева коммунистической властью!
История И.М. Наппельбаум замечательна, но отнюдь не уникальна. Нечто подобное, например, ранее произошло с писателем Вивианом Азарьевичем Итиным (1894–1945), сотрудником журнала «Сибирские огни». В 1922 году он опубликовал в своем журнале коротенькую рецензию на вышедшие только что книги Гумилева: «Огненный столп», «Тень от пальмы» и «Посмертный сборник». В.А. Итин отнюдь не был противником советской власти. Его заметка – не более чем библиографическая аннотация: три абзаца, вполне соответствующие тогдашней стилистике: Гумилев – «неисправимый аристократ», «холодный эстет», его Африка – это «Африка негусов», а Китай – «Китай богдыханов». Словом, все чин чином, комар носа не подточит. Но…
Но в конце заметки, появившейся через полгода после смерти поэта, В.А. Итин, сознавая объективно-некрологический характер отклика, счел нужным добавить: «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России останется глубокой трагедией» (Сибирские огни. 1922. № 4; цит. по: Николай Гумилев: Pro et contra. СПб., 1995. С. 485).
Все. Этого ему уже не забыли – и через шесть лет, в 1928 году, Итин заполошно пишет Горькому: «Есть раздражающие факты. Недавно на пленуме Сибирского краевого комитета партии, в связи с докладом о “культурной революции”, был поднят вопрос о “Сибирских огнях” и о писателях. Ни меня, ни даже В. Зазубрина (Владимир Зазубрин, наст. имя – Зубцов Владимир Яковлевич, 1895–1937, писатель, большевик с дооктябрьским стажем, в 1928 – председатель Союза Сибирских писателей. – Ю. З.) на высокое собрание не пустили, хотя оба мы партийные коммунисты. Потом мы прочитали отчет. Там говорилось, что “Сибирские огни”… неблагонадежны в политическом отношении; например – один мальчик посвятил свои стихи Н. Гумилеву, это объясняется тем, что пять лет назад (sic!) в “Сибирских огнях” было напечатано, что Гумилев оказал большое влияние на современную поэзию (заметка принадлежит мне, ответственным редактором тогда был Ем. Ярославский…). На собрание справка о Гумилеве “произвела впечатление”» (Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1969. Т. 1. С. 38–39). «Впечатление» было настолько сильным, что оправдаться «партийному коммунисту» В.А. Итину так до конца и не удалось. «Гумилевский эпизод» повис на нем мертвым грузом, и в конце концов Итин был арестован и умерщвлен в лагере.
Не следует, впрочем, думать, что все «гумилевские истории» оканчивались в советское время подобными кошмарами. Были развязки и вполне невинные. Так, об одной из них автор этих строк узнал, что называется, из первых уст, а участники тех событий благополучно здравствуют и по сей день, – почему мы и воздержимся от упоминаний конкретных имен.
Итак, первая половина 1960-х годов. Оттепель. Кульминация раннего советского либерализма. «Новый мир» Твардовского. Солженицын. Поэты – «шестидесятники» собирают стадионы слушателей. Массовая реабилитация жертв культа личности, и прежде всего – реабилитация ранее запрещенных писателей.
Литературный кружок ленинградского Дворца пионеров проводит очередную олимпиаду. Принимаются сочинения на злободневную тематику. Один из участников кружка с подачи своего руководителя пишет сочинение «Творчество Н. Гумилева». Куда уж злободневней! Сочинение так и начинается: «Несколько лет назад в советском литературоведении не было имен Ахматовой и Цветаевой, Бунина и Есенина, Бабеля и Булгакова. “Чем сложнее, непривычнее творчество писателя, тем больше с ним хлопот и неприятностей”, – писал В. Лакшин. Я думаю, причина забытости многих поэтов начала ХХ века именно в этом. Очевидно, к числу этих поэтов можно отнести Николая Степановича Гумилева. Нельзя же объяснить полную забытость автора его политическими взглядами. Тем более, что в подавляющем большинстве стихов политические взгляды автора не высказываются. Ведь писал он просто хорошие, музыкальные стихи. Может быть, гениальные?»
Нужно повторить: в том историческом контексте, на фоне публикаций Михаила Булгакова, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама и других «писателей из спецхранов», на фоне разоблачений «проклятого прошлого», совершаемых журналистами на страницах массовых изданий прямо с подачи «верхов», эта и подобные же сентенции, составившие вкупе текст сочинения, не выглядели – по крайней мере, не выглядели на первый взгляд, – чем-то радикально оппозицонным. Напротив, все логично: если уж реабилитируем Мандельштама, писавшего откровенно антисоветские стихи, или эмигрантку и жену белогвардейца Цветаеву, то уж Гумилева-то, который даже и стихов против советской власти не писал…
И, действительно, время было весьма либеральным – и реакция на сочинение оказалась со стороны администрации предельно мягкой: литературный кружок разогнали, олимпиаду запретили, руководителей кружка уволили, у юного любителя поэзии были неприятности в школе – всего-то. Оттепель, она и есть оттепель. Любопытна, правда, резолюция, наложенная на сочинение ответственным товарищем, курировавшим все мероприятие: «Итак, работа защищает “талантливого” и “масштабного” поэта Гумилева, а заодно с ним буржуазный мир, контрреволюцию, ницшеанскую философию, а, следовательно, и фашизм косвенно! Тенденциозный подбор цитат и материалов (Горький, боровшийся против модернизма в литературе, тщательно обходится) свидетельствует о моральной и политической нечистоплотности автора». Эх, опоздал рецензент! Вмазать бы такой формулировкой годами десятью раньше по… кому угодно – не то, что по школьнику из Дома пионеров, – от человека мокрое место бы осталось. А теперь что же… Только пафос полемический втуне пропал. Однако вызывает восхищение быстрота и четкость реакции: недаром автор этих воистину чеканных строк к тому времени уже прошел хорошую подготовку в системе министерства образования (и посейчас, кстати, продолжает работать в той же системе, осваивая на склоне дней азы борьбы за светлое демократическое будущее).
Вот такие истории. «Запрет на Гумилева доходил до комизма, – свидетельствует Е.Г. Эткинд, – биографу А.А. Ахматовой запрещали упоминать о том, что она в 1910 году вышла замуж за Гумилева; приходилось изворачиваться, пользуясь неуклюжими перифразами, – вроде того, например, что Ахматова была “женой руководителя акмеистического направления”. В 1968 году книга Е.С. Добина об А. Ахматовой была брошена под нож только потому, что в ней несколько раз упоминался Гумилев; книгу Добина переиздали, изъяв проклятое имя. Иногда такие изъятия совершенно удивительны. Известно, например, что во главе объединения "Цех поэтов" стояли два так называемых "синдика" – Гумилев и Городецкий; на 22-й странице книги Е.С. Добина читаем: "Во главе "Цеха" стояли три "синдика", в том числе Сергей Городецкий. Не два, а три… – это заведомая ошибка. Издательство пошло на грубое искажение факта, чтобы только не называть Гумилева: нельзя же сказать: "Во главе "Цеха" стояли два "синдика", в том числе С. Городецкий… – это вызвало бы гомерический хохот. А "три" и "в том числе" – звучит вроде пристойно, хоть на самом деле и глупое вранье, навязанное Добину цензурой.
Да и мне пришлось пострадать от этого дурацкого запрета. Тогда же, около 1968 года, в издательстве "Прогресс" выходила составленная мною двуязычная антология "Французские стихи в переводе русских поэтов"; парнасский поэт Теофиль Готье был представлен хрестоматийно-известными переводами Гумилева. Стихи, далекие от всякой политики, чисто эстетские, стилизованные, иногда слегка эротические – в духе нового рококо:
Ты хочешь, чтоб была я смелой?Так не ругай, поэт, тогдаМоей любви, голубки белойНа небе розовом стыда…Книга была уже сверстана – тут-то и возник скандал: "белую голубку" безжалостно выкинули из сборника, не остановились и перед расходами на переверстку. Как же можно – переводы Гумилева!» (Эткинд Е.Г. Возвращение Гумилева // Время и Мы (Tel-Aviv). 1986. № 90. С. 122–123).
II
Идейно-пропагандистский аппарат почти на всем протяжении существования СССР (за исключением разве нескольких лет «позднего» застоя, после смерти М.А. Суслова) был исключительно гибок и силен, что позволяло ему одерживать верх над сильнейшими противниками в условиях открытой идеологической войны с Западом и тотальных политических и экономических неудач в собственной стране. Анекдот о советском гражданине, который «слышал не то, что видел, а видел не то что слышал» – и в то же время, заметим, был, в общем, вполне лоялен к властям (горстка столичных диссидентов-интеллектуалов, не находящая особого сочувствия у «широких народных масс», не в счет), – косвенное признание высочайшего класса советских идеологов. То, что глухая пассивная оборона в любой борьбе бесперспективна, здесь понимали великолепно – и к запретам на имя (а в случае с Гумилевым мы имеем дело как раз с такой формой идеологического остракизма), насколько мне известно, не прибегали без крайней к тому необходимости. Имена-то, кстати, в отличие от каких-либо иных сведений об объекте повествования, не просто использовались, но и, превращенные в элементы устойчивых сочетаний, внедрялись в массовое сознание. Кто таков Николай II? – Кровавый! А Троцкий? – Иудушка! Бухарин? – Помесь лисицы и свиньи! Сталин? – Слишком груб! Культ личности! Хрущев? – Волюнтарист, кукурузник…
История русской литературы, особенно литературы ХХ века, также подвергалась этой простой и исключительно эффективной обработке. Горький – буревестник, всему лучшему обязанный книгам. Маяковский – сначала лучший и талантливейший поэт эпохи, а потом – просто агитатор, горлан, главарь. Ахматова – то ли монахиня, то ли блудница. Зощенко – подонок…
Подобного рода «номинативные формулы» хорошо было подкрепить, если речь идет о врагах, избранными цитатами и фактами биографии. Помимо того, наследие писателей подвергалось идеологичекому истолкованию, плоды которого вкусили многие поколения советских школьников и студентов. Пушкинский «Евгений Онегин» в содержании своем сводился для них к «энциклопедии русской жизни», а гоголевские «Мертвые души» – к «галерее помещиков»…
Помня все сказанное, зададимся теперь вопросом: неужели же советская критика была настолько близорука и тупа, что, препарируя Гоголя с Пушкиным, спасовала перед Гумилевым, популярность которого (и, следовательно, реальный вред и потенциальная идеологическая польза) уже в двадцатые годы была очевидна?
III
Парадокс в том, что, беспощадно подавляя любые неуправляемые, несанкционированные заранее попытки задействования в советском читательском обиходе творчества Гумилева, советские официальные идеологические структуры 1920 – 1930-х гг. настойчиво работали над адаптацией его к нуждам советского жизнестроительства – уж больно велик был соблазн. Хотя бы дезавуировать, сделать непривлекательным по-настоящему, а не под страхом наказания, непривлекательным и ненужным советскому человеку (как Гиппиус), сделать чтение Гумилева дурным тоном, актом снобистского эстетства, неизбежно влекущим за собой никогда не почитаемую в России антипатриотическую, космополитическую фронду (пусть даже и по отношению к социалистическому, но Отечеству). Хотя бы… А ведь, может быть… Если бы сделать его… своим… Легальным. Прирученным к школьной программе – хотя бы несколькими, но безусловно и надежно интерпретированными стихотворениями. «Капитанами»! «Словом»! «Шестым чувством»! «Трамваем», елки-палки! Но так, чтобы интерпретация не вызывала смеха у обучаемых. Насмерть. Ведь сделали же «своим» Пушкина – «друга декабристов», и Толстого – «срывателя всех и всяческих масок». Да что там Толстой! Самого Федора Михайловича распластали и повязали так, что он явился теперь чуть ли не ближайшим идейным сподвижником Маркса с Лениным. И те ратовали за униженных и оскорбленных, и он…
Беда и трагедия талантливых советских идеологов была в том, что они не хуже своих оппонентов понимали, что такое Гумилев. «Я знал людей (некоторые из них занимали в литературе, в прессе, в высших учебных заведениях командные посты), – пишет Л.А. Озеров, – проповедовавших с трибуны социалистический реализм и партийность, поддерживавших постыдные выступления Жданова, но в узком кругу за чашкой чая или за рюмкой водки упоенно читавших Гумилева. Они, что называется, “отводили душу”. Двуличие, ханжество и фарисейство цвели буйным цветом». Да, конечно, двуличие. Да, конечно, ханжество. Но все-таки еще и – трагедия. И человеческая, и – что важнее для нас – профессиональная. Ярче всего смысл этой трагедии сформулировал уже в 1921 году в разговоре с М.Л. Лозинским С.П. Бобров – «сноб, футурист и кокаинист, близкий к ВЧК и вряд ли не чекист сам», как характеризует его Г.И. Иванов, который и зафиксировал этот разговор в своих «Петербургских зимах»: «Да… Этот ваш Гумилев… Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу… Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодчество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж – свалял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны» (Иванов Г.В. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1994. С. 169).
Иванов – не самый достоверный мемуарист, однако именно этот эпизод в его воспоминаниях подтверждается целым рядом иных источников (Д.Ф. Слепян, В.А. Павлов, Н.А. Оцуп и др.). Но дело даже не в том. В приведенном монологе – вымышленном или настоящем – дается формула, востребованность которой в будущем «советском» гумилевоведении очевидна: «Эх, свалял дурака! Писал бы чуть-чуть иначе – какую бы карьеру сделал (хотя бы и посмертную)! Нам такие люди нужны…»
Вот как ставился вопрос о Гумилеве: с одной стороны – запрет, а с другой…
«До войны о нем еще можно было писать – но в каком тоне, – свидетельствует Е.Г. Эткинд. – Вот профессор Б.В. Михайловский в учебнике “Русская литература ХХ века” (1939) учит студентов филологических факультетов: “…агрессивные устремления нашли свое воплощение в поэзии Гумилева. Гумилев прославлял ницшеанскую “мораль сильных”, воинствующих аристократических индивидуалистов, агрессивных людей… “расу завоевателей древних”, командиров, – презирающих и укрощающих бунтующую чернь”… “Открытый антидемократизм, монархизм”. И еще: “…на передний план проступали черты идеологии буржуазного паразитизма…”. Постоянно подчеркивается, что Гумилев – империалист, расист, ненавистник народа, певец колониализма, агрессор».
Ефим Григорьевич указывает лишь на одну тенденцию в процессе – деструктивную. И, действительно, приводимые им факты можно множить и множить. Так, А.А. Волков, в отличие от упомянутого проф. Михайловского, вообще специализировался на «разоблачении» Гумилева, едином по содержанию, но многократно повторенном в разных версиях разнообразных изданий. У Волкова был подобран ряд «ударных» гумилевских цитат, кочевавших из работы в работу и призванных доказать тот нехитрый тезис, что содержанием творчества Гумилева является «твердолобый консерватизм», «расовая гордость» и «воинствующий патриотизм»: «Гумилев… “не думающий” империалистический конквистадор, прямолинейный и последовательный в своих агрессивных стремлениях» (Волков А.А. Поэзия русского империализма. М., 1935. С. 143, 186). Самой же любимой в этом «цитатнике» у А.А. Волкова была выдержка из «африканской» поэмы «Мик» – из того эпизода, когда белый мальчик Луи пытается защитить своего черного друга Мика, которого абиссинский гвардеец пытается продать в рабство:
Пусти, болван, пусти, урод!Я белый, из моей землиПридут большие кораблиИ с ними тысячи солдат…Пусти, иль будешь сам не рад!Поданная вне контекста цитата эта действительно вызывает странные чувства… Впрочем, если бы речь шла только о литературоведах!
Особая и интереснейшая тема – «гумилевиана» в советской художественной литературе эпохи расцвета социалистического реализма. В беллетристике Гумилев поминался нечасто и мельком – но как! Классикой здесь оказывается «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, где цитата из гумилевских «Капитанов» эмблематизирует весь спектр антисоветских настроений «бывшей» русской интеллигенции, вынужденной скрепя сердце сотрудничать с ненавистным большевицким режимом:
«КОМИССАР: Вы можете мне ответить прямо: как вы относитесь к нам, к советской власти?
КОМАНДИР (сухо и невесело): Пока спокойно. (Пауза). А зачем, собственно, вы меня спрашиваете? Вы же славитесь умением познавать тайны целых классов. Впрочем, это так просто. Достаточно перелистать нашу русскую литературу, и вы увидите.
КОМИССАР: Тех, кто “бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так, что сыпется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет”. Так?
КОМАНДИР (задетый): Очень любопытно, что вы наизусть знаете Гумилева» (Вишневский Вс. Собрание сочинений. В 5 т. М., 1954. Т. 1. С. 242–243).
К «классике» этого же рода можно отнести и «Стихи о Поэте и Романтике» Эдуарда Багрицкого, в которой от лица юной советской романтической поэзии проклинается «черное предательство Гумилева»:
Фронты за фронтами.Ни лечь, ни присесть!Жестокая каша да ситник суровый;Депеша из Питера: страшная вестьО черном предательстве Гумилева…Я мчалась в телеге, проселками шла;И хоть преступленья его не простила, —К последней стене я певца подвела,Последним крестом его перекрестила…(см.: Багрицкий Эд. Собрание сочинений. В 2 т. М. – Л., 1938. Т. 1. С. 608). Что Гумилев «предавал черным предательством», для читателя, не осведомленного в перипетиях гумилевской творческой судьбы, не совсем понятно, однако стих звучит весьма темпераментно и остается в памяти, равно как и благородный образ «революционной Романтики», так сказать, хоть и не простившей, но – «перекрестившей»…
Однако повторяем, это – «классика», для простого читателя трудная. Гораздо эффективнее действовала «гумилевиана» массового чтива. Здесь с именем и фрагментами текстов Гумилева стойко связывалась вся мразь, которую мог себе представить рядовой советский обыватель. Любили Гумилева авторы детективов. Так, например, весьма характерный «гумилевский» эпизод встречается в «сыщицком» рассказе небезызвестного Л. Шейнина «Отец Амвросий» (о священнике-бандите): «Недоучившийся гимназист Витька Интеллигент происходил из богатой купеческой семьи. Еще юношей он свел знакомство с преступным миром, усвоил воровской жаргон, посещал притоны. Внешний лоск и некоторая начитанность сначала вызывали там враждебное недоумение, а потом снискали к нему уважение и доброжелательный интерес. И часто где-нибудь в воровском притоне или в курильне опиума Виктор проводил целые ночи в обществе громил, карманников и проституток. Он жадно выслушивал рассказы об их похождениях, при нем происходил дележ барышей, при нем обсуждались и вырабатывались планы новых преступлений.
Иногда Виктор читал стихи. Мечтательно запрокинув голову, он нараспев читал Гумилева. Читал он хорошо.
Тогда в душной подвальной комнате становилось тихо. Юркие карманники с Сенного рынка, лихие налетчики из Новой Деревни, серьезные, молчаливые "медвежатники" – специалисты по взламыванию несгораемых касс, – их спившиеся, намалеванные подруги жадно внимали певучей, грустной музыке стихов» (Шейнин Л. Старый знакомый. Повести и рассказы. М., 1957. С. 32–33).
Были и детективы «шпионские». Так, в повести А. Полещук «Эффект бешеного солнца», прибегая к гумилевскому тексту, разоблачает себя в припадке откровенности бывший белогвардеец-контрразведчик, а потом – террорист-вредитель и агент всех разведок: «Я – один. А где все те, кто в трудную минуту спасал свои сундуки, кто пьянствовал без просыпу, кто рылся в барахле расстрелянных, кто поменял первородство и честь спасителя отечества на чечевичную похлебку из большевицкого котла. (Здесь, кстати, чувство стилистической меры изменило автору, явно не желающему впасть вслед за своим героем в антисоветизм, но невольно провоцирующему читателя на "крамольное" размышление: хорошенькие же люди собрались "у большевицкого котла"! но это так, к слову. – Ю. З.) Я был всегда другим. Да, был другим. Меня поразили когда-то слова: "Я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек". Это было верно, это была истина, истина моя и горстки таких, как я. Ваши друзья расстреляли автора этих строк, но, вспоминая те кисельные души, из-за которых все погибло, я и сегодня тот самый металлический идол, идол кованный, идол мятый, битый, катанный, но живой и с живой надеждой» (Альманах научной фантастики. Вып. 8. М., 1970. С. 81).