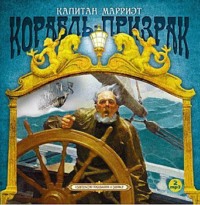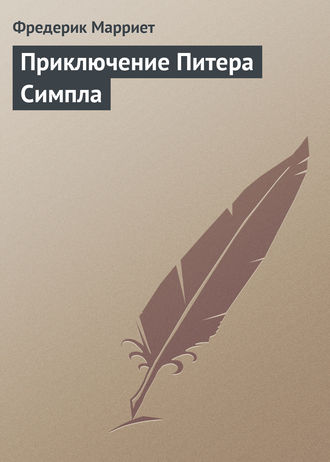 полная версия
полная версияПриключение Питера Симпла
– Так было и прежде, сэр, уверяю вас: 27672 года тому назад вы уже были старшим лейтенантом этого корабля, а я плотником, хоть мы того и не помним; через 27672 года мы будем снова стоять около борта и разговаривать о ремонте, как и сейчас.
– Не сомневаюсь, сэр, – возражал старший лейтенант. – Скажу даже, что все это совершенно справедливо; но тем не менее починки должны быть окончены ночью, а через 27672 года вы получите такое же категорическое приказание по этому предмету, так уж лучше делайте, что вам говорят.
Такая теория делала его, Мадли, весьма равнодушным к опасностям и ко всему на свете. Это ничего не значило, все происходит уж не в первый раз. Случалось в прошлом – повторится и в будущем; судьба всегда останется судьбой.
Но личность боцмана была еще занимательнее. Он считался самым примерным (то есть деятельным и строгим) боцманом в королевской службе. Его прозвали «Джентльменом Чаксом»; последним словом в этом прозвище было его имя. Казалось, его образование не было доведено до конца: в его разговоре первые фразы были замечательно изысканы, и вдруг вырывалось красное словцо. Внешность его была очень приятна: могучие формы, проницательные глаза и волосы, завивавшиеся в кольца. Голову он держал всегда прямо, поступь имел гордую. Он говорил, что офицер должен выглядеть офицером и вести себя сообразно своему званию. Он был очень чистоплотен, носил кольца на крупных пальцах и пышные оборки на груди, торчащие подобно спинным плавникам окуня; воротнички рубашки были всегда подняты вверх до самых скул. Он никогда не появлялся на палубе без своего средства убеждения или «убедителя», как он называл свою дубинку, сплетенную из трех хлыстов. Убедитель этот никогда не оставался в бездействии. Чакс старался быть как нельзя вежливее, даже с простыми матросами, и замечания его всегда начинались очень деликатно, но чем далее он говорил, тем менее изысканной становилась его фразеология. О'Брайен выразился однажды, что речь его очень похожа на поэтическое изображение греха: прекрасны верхние члены, но отвратительны нижние. К примеру, вот что сказал он матросу на баке:
– Позвольте вам заметить самым деликатным образом в свете: вы пролили деготь на палубу, мой милый, на палубу, сэр, которую, простите мне это замечание, я должен попросить вас вымыть к завтрашнему утру. – И затем, повышая голос, продолжал: – Понимаете ли вы меня, сэр, вы замарали бак корабля его королевского величества. Я должен исполнить мою обязанность, сэр, когда вы не радеете о своей. Так вот тебе, так вот тебе (бьет матроса дубинкой). Проклятое отродье корабельного повара! Сделай это еще раз, черт возьми! Я вырежу тебе печень!
Помню, один корабельный юнга, неся ведро помоев на голове, чтобы их вылить, забыл приложить палец к фуражке, проходя мимо боцмана.
– Стой, мой дружочек, – сказал ему боцман, расправляя оборки и поправляя с обеих сторон воротнички рубашки. – Известны ли вам мой чин и положение в обществе?
– Да, сэр, – ответил юнга, дрожа и поглядывая на дубинку.
– А, вам известно это! – продолжал мистер Чакс. – Если бы это не было вам известно, я счел бы необходимым хорошенько наказать вас, чтоб избавить от подобного неведения впредь, но раз вы знаете, – ну, так черт вас возьми, вам нет прощения; вот вам, вот вам, ревун, голодный недоносок. Прошу извинить, мистер Симпл, – сказал он, обращаясь ко мне (я был в это время с ним), между тем как юнга с воплем продолжал свой путь, – право, служба делает нас строгими. Тяжко жертвовать здоровьем, ночным покоем, всеми удобствами, но тяжелее для меня то, что по ответственности положения я вынужден часто жертвовать своим благородством.
Шкипер был начальником вахты, к которой я был причислен. Это был добрый моряк, воспитанный на купеческом корабле, наружности не совсем-то джентльменской, очень покладистый и большой любитель грога. Он беспрестанно ссорился с боцманом и уверял, что служба много потеряла с тех пор, как патентованные офицеры стали носить белые манжеты и рубашки с оборками. Но боцман не обращал на него внимания; он знал свои обязанности и исполнял их, а до остального ему не было дела.
– Был бы доволен капитан, – говорил он, – а там пусть дуется на меня хоть весь корабельный экипаж. Что касается шкипера, это очень хороший человек, но кто получил воспитание на угольном корабле, от того нельзя ожидать хорошей полировки.
– Да и в самом деле, – прибавил он, подымая вверх воротнички рубашки, – невозможно сделать шелковый кошелек из свиного уха.
Шкипер был очень благосклонен ко мне и обыкновенно посылал меня в койку до окончания вахты. В ожидании этого времени я обычно гулял по палубе с О'Брайеном, который в моих глазах был очень занимательным собеседником и учил меня всему, что имело отношение к моему званию.
– Парус со стороны штирборта! – закричал сторожевой.
– Хорошо! – отозвался шкипер. – Мистер О'Брайен! Где мистер О'Брайен?
– Вы меня зовете, сэр? – спросил О'Брайен.
– Да, сэр, посмотрите, что за корабль?
– Слушаю, сэр, – ответил О'Брайен.
– А вы, мистер Симпл, – продолжал шкипер, – сойдите вниз и принесите мне мою ночную трубу.
– Слушаю, сэр, – ответил я.
Я не имел понятия о ночной подзорной трубе, но так как я заметил, что примерно в это время слуга обыкновенно приносил шкиперу стакан грогу, то сообразил, что знаю, чего ему надобно.
– Но смотрите, не разбейте, мистер Симпл, – прибавил он.
«О, так, отгадал, – подумал я, – ему нужен стакан».
Я сошел вниз, позвал смотрителя пороховой камеры и попросил его дать мне стакан грогу для мистера Доуболла. Буфетчик, полусонный и в одной сорочке, встал с постели, сделал грог, подал мне, и я осторожно понес его на квартердек.
В мое отсутствие шкипер успел уже вызвать капитана. По приказанию последнего О'Брайен вызвал старшего лейтенанта, и когда я вошел, оба они уже были на палубе. Подымаясь по лестнице, я слышал, как шкипер говорил:
– Я послал молодого Симпла за ночной подзорной трубой, но его так долго нет, что я полагаю, он как-нибудь ошибся, ведь это почти дурак.
– Я не согласен с вами, – возразил мистер Фокон, старший лейтенант, в ту самую минуту, когда я вступил на палубу.
– Он не дурак? Может быть, – ответил шкипер. – Да вот и он. Что вы там так долго делали, мистер Симпл? Где моя подзорная труба?
– Вот, сэр, – ответил я, подавая ему стакан грогу, – я приказал сделать покрепче.
Капитан и старший лейтенант прыснули от смеха; мистер Доуболл был известен как страшный охотник до грога. Первый из них, чтоб скрыть свой смех, удалился на корму; но последний остался. Мистер Доуболл пришел в ярость.
– Не говорил ли я, что парень глуп? – сказал он, обращаясь к старшему лейтенанту.
– По крайней мере, данный случай этого не доказывает, – возразил мистер Фокон, – он метко попал в цель.
Сказав это, старший лейтенант присоединился к капитану, и оба они, смеясь, ушли с палубы.
– Поставьте это на кабестан, сэр, – сказал мне мистер Доуболл сердитым голосом. – Вы поплатитесь за это.
Я очень удивился, но все-таки не догадывался, дурно ли, хорошо ли поступил. Во всяком случае, думал я, сделал это с добрым намерением. Поставив стакан на кабестан, я отошел в сторону и принялся гулять по палубе. Лишь только капитан и старший лейтенант сошли вниз, О'Брайен подошел на корму.
– Что это за корабль, там вдали? – спросил я.
– Это десятипушечный бриг, как я полагаю.
Я рассказал ему о случившемся и объявил, что шкипер сердится на меня. Он чистосердечно смеялся этому и успокоил меня, приказав оставаться с подветренной стороны фрегата и наблюдать за шкипером.
– Стакан грогу для него такая приманка, что он будет лавировать вокруг него, пока не выпьет. Когда ты увидишь, что он подносит его к губам, подходи смело и проси извинения, если чем обидел его; он простит тебя.
Я решил последовать этому доброму совету и стал ожидать. Я заметил, что шкипер вертится вокруг кабестана и всякий раз описывает круги все меньше и меньше; наконец, он схватил стакан и выпил половину. Грог был так крепок, что он остановился перевести дух. Я счел это благоприятным моментом и подошел к нему; он снова поднес стакан к губам, и, прежде чем он успел заметить меня, я сказал:
– Надеюсь, сэр, вы простите меня; я не видывал ночной трубы и, заметив, что вы много ходили, подумал, что вы устали и желаете чего-нибудь выпить для прохлаждения.
– Хорошо, мистер Симпл, – сказал он, допив стакан с глубоким вздохом, выражавшим удовольствие. – Так как вы сделали это с добрым намерением, то я прощаю вам на этот раз; но помните, что если в другой раз принесете мне стакан грогу, то чтоб это не было в присутствии капитана и старшего лейтенанта.
Я обещал и ушел очень довольный примирением с ним и еще более отзывом старшего лейтенанта, который утверждал, что настоящий поступок не доказывает моей глупости.
Наконец наша вахта кончилась, и около двух часов меня сменил мичман следующей вахты. Очень неприятно, когда тебя не сменяют вовремя; но если бы я в таком случае сказал хоть слово, то, наверное, был бы побит на следующий день под тем или другим предлогом. С другой стороны, мичман, которого я сменял, был гораздо сильнее меня, и если бы я не поднимался заблаговременно, он непременно стащил бы меня с постели и поколотил; часто, благодаря им обоим, я был на вахте чаще, чем следовало; исключения случались только тогда, когда шкипер посылал меня в постель до истечения моей вахты.
Глава двенадцатая
Пациент старшего лейтенанта. – Мистер Чакс, боцман, поверяет мне тайну о своем благородном происхождении.
Прежде чем примусь продолжать рассказ, я хочу объяснить читателю, что история эта написана не в позднейший период моей жизни, когда я приобрел уже некоторое знание света. Впервые отправляя меня в море, матушка просила, и я обещал ей вести дневник моих приключений и мыслей, которые они внушат мне. Я строго исполнял это обещание, и когда стал сам себе господином, этот дневник остался в моем владении. Естественно, что в изложении первой половины моих приключений каждое событие представлено в духе того впечатления, которое оно произвело на меня. Впоследствии мнение мое касательно многих вещей изменилось; некоторые пассажи и истории заставляли меня смеяться над собственной глупостью и наивностью; но все-гаки я счел лучшим не замещать в нем свои юношеские представления о жизни теми, которые внушила мне впоследствии дорого приобретенная опытность. Нельзя требовать от мальчика пятнадцати лет, воспитанного в стенах провинциального города, чтоб он смотрел на вещи и судил о них так, как молодой человек, видевший и испытавший в жизни многое. Итак, читатель не должен забывать, что в моем дневнике я сообразовывался с понятиями и чувствами, руководившими мной в каждом из различных периодов моей жизни, о которых я буду рассказывать.
Однажды утром я стал свидетелем забавного случая. Мы занимались штопанием коек на квартердеке. В это время вошел юнга с койкой на плечах, и когда он проходил мимо старшего лейтенанта, последний заметил у него за щекой сверток табаку.
– Что это у тебя, мой милый, десны болят, что ли? Твоя щека страшно распухла.
– Нет, сэр, – возразил юнга, – я ничего не чувствую.
– Ну так, может быть, у тебя зуб болит? Открой рот, я посмотрю.
Юнга очень неохотно открыл рот, и глазам старшего лейтенанта представился огромный сверток табачного листа.
– Ага, вижу, вижу, – вскричал старший лейтенант. – Тебе надобно растянуть рот и почистить зубы. Жаль, что у нас нет зубного лекаря на борту, но делать нечего, я елтл произведу операцию. Позовите оружейника с щипцами.
Оружейник явился, юнгу заставили открыть рот, и сверток табаку был вытащен этим грубым инструментом.
– Хорошо, – сказал старший лейтенант. – Я уверен, что тебе теперь лучше, иначе ты навсегда лишился бы аппетита. Капитан, достаньте-ка лоскуток канифаса и немного песку, да почистите ему хорошенько зубы.
Тот выступил вперед, зажал голову юнги между колен и принялся тереть ему зубы песком и канифасом, что продолжалось минуты две.
– Хорошо, – сказал старший лейтенант. – Теперь у тебя хорошенький чистенький ротик, и ты можешь снова наслаждаться завтраком, а то до сих пор тебе невозможно было есть с таким грязным ртом. Когда туда еще что-нибудь попадет, снова приходи ко мне; я готов служить тебе зубным лекарем.
В другой раз я находился на баке вместе с боцманом, мистером Чаксом, который был очень расположен ко мне. Он учил меня завязывать на канате разные узлы и банты, употребляемые в нашей службе; я был страшно непонятлив, но он терпеливо повторял свои указания, пока, наконец, я не выучился. Между прочим, он научил меня завязывать так называемый «рыбачий бант», который он называл королем всех узлов.
– Мистер Симпл, – сказал он, – в этом узле заключается глубокая мораль. Заметьте, если вы потянете концы в правую сторону, и притом вместе, то чем больше вы тянете, тем труднее становится развязать его. Но смотрите: я потяну концы каждый отдельно – и вмиг он ослабляется, и развязать его очень легко. Это указывает на необходимость действовать в этом мире заодно, мистер Симпл, если мы хотим добиться успеха, а эта философия стоит всех двадцати шести тысяч с лишком лет моего друга плотника, которые не ведут его ни к чему иному, как только к мечтательности, мешающей ему исполнять свои обязанности.
– Справедливо, мистер Чакс, вы философ почище его.
– Я лучше воспитан, мистер Симпл, и, надеюсь, более похож на джентльмена. По-моему, всякий джентльмен в некоторой степени философ, потому что он часто бывает вынужден для поддержания своего достоинства противостоять таким обстоятельствам, которые разнуздали бы все страсти в другом. Я считаю отличительной чертой джентльмена хладнокровие. На службе, мистер Симпл, иной вынужден казаться сердитым, даже если сам не оправдывает этой страсти. Я могу сказать, что никогда не лишаюсь хладнокровия, даже когда даю волю своему «убедителю».
– Для чего же вы, мистер Чакс, так ругаетесь, когда говорите с матросами? Уж, конечно, это не по-джентльменски?
– Конечно, нет, сэр. Но я замечу в свою защиту, что на борту военного корабля мы вовсе не свободны в своих действиях. Необходимость, мой милый мистер Симпл, не ведает закона. Вы должны были заметить, как деликатно я всегда начинаю, когда нахожу что-нибудь не так. Я делаю это в доказательство своего благородства, но ревность к службе заставляет меня изменять речь, чтоб доказать, наконец, что я говорю серьезно. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, как возможность исполнять свои обязанности по-джентльменски, но это невозможно.
– Я, право, не понимаю, почему так?
– В таком случае объясните мне, мистер Симпл, почему ругаются капитан и старший лейтенант?
– На этот вопрос я не могу ответить, но, мне кажется, они делают это в редких случаях.
– Совершенно верно; но, сэр, их редкие случаи составляют мою ежедневную работу и ежечасную обязанность. В повседневной работе на корабле я отвечаю за все, что делается дурно. Жизнь боцмана вся состоит из этих редких случаев, и поэтому я ругаюсь.
– Я все-таки не могу допустить, чтоб это было необходимо, и нет сомнения, что это грешно.
– Извините, сэр, это положительно необходимо и вовсе не грешно. Кабинетный язык не годится на борту корабля, а человек в каждой ситуации должен употреблять те выражения, которые в наибольшей степени способны произвести желаемое действие на его слушателей. Вследствие ли долголетней привычки к службе или равнодушия моряка ко всему обыкновенному, как в событиях, так и в языке, – я не умею яснее высказать своей мысли, мистер Симпл, но знаю, что говорю, – причиной ли тому постоянная раздражительность, но только, чтобы побудить матроса к деятельности, нужно больше стимула. По крайней мере, не подлежит сомнению, что на простых матросов нисколько не действует обыкновенная речь. У нас говорят: «Сделай то-то, черт тебя возьми!», и приказание исполняется тотчас же. Приказание «делай» имеет вес пушечного ядра, которому не достает еще силы стремления, а слова «черт тебя возьми» – порох, заставляющий его лететь к исполнению своей обязанности. Понимаете вы меня, мистер Симпл?!
– Понимаю очень хорошо, мистер Чакс, и, без лести, не могу не заметить, что вы отличаетесь от остальных уорент-офицеров. Где вы воспитывались?
– Мистер Симпл, я боцман в чистой рубашке и вдобавок вполне знающий свои обязанности; это я сам говорю, и никто не осмелится противоречить мне. Хоть я не могу похвастать, чтоб был когда-либо знатнее, чем я теперь, но осмелюсь сказать, однако, что был некогда в лучшем обществе, в обществе лордов и леди. Я как-то раз обедал с вашим дедушкой.
– Вы счастливее меня, – заметил я, – дедушка никогда обо мне не спрашивал и вряд ли знает о моем существовании.
– Что я говорю, то правда. До вчерашнего разговора с О'Брайеном я не знал, что лорд Привиледж ваш дедушка; но я очень хорошо помню его, хотя и был еще в то время молод.
Глава тринадцатая
Я откомандирован в дело и попадаю в плен к старой даме, которая, будучи не в состоянии получить мою руку, довольствуется вместо того одним пальцем. – О'Брайен освобождает меня. – Береговой ветер, от которого мы едва не погибли.
Спустя два или три дня после этого разговора с мистером Чаксом капитан направил корабль к берегу, и, находясь в пяти милях от него, мы заметили невдалеке от земли два корабля. Мы распустили все паруса и отрезали их от песчаного мыса, за которым они старались укрыться. Видя невозможность исполнить свое намерение, они устремились к берегу под защиту незначительной батареи из двух пушек, открывшей по нам пальбу. Свист первых ядер, прорезавших наши снасти, показался мне до крайности ужасным, но офицеры и матросы встретили их с улыбкой, а потому, конечно, я тоже постарался улыбнуться, хотя в действительности не находил тут ничего смешного. Капитан скомандовал штирбортной вахте собраться на шканцах, отвязать боты и приготовить их к спуску в море; потом мы бросили якорь на расстоянии одной мили от батареи и завязали с ней перестрелку. Между тем остальной экипаж спустил четыре бота, которые тотчас же наполнились вооруженными людьми и отправились для взятия батареи. Мне очень хотелось участвовать в деле, и О'Брайен, получивший команду над первым катером, взял меня с собой с условием, чтоб я спрятался от капитана на шканцах и оставался там, пока боты не станут отчаливать от корабля. Я выполнил это указание и никем не был замечен. Мы поплыли наискось к батарее. Не более как через десять минут боты ударились о песчаный берег, и мы бросились вон. Французы выпалили из пушек, лишь только мы приблизились к берегу, и потом бросились бежать, так что батарея досталась нам без боя. Этому последнему обстоятельству я был очень рад, потому что по своему возрасту и силам не считал себя способным устоять в рукопашной борьбе со взрослым человеком. Около самой батареи находилось несколько рыбачьих хижин, и, между тем как двое из наших ботов отправились к неприятельским кораблям, чтобы посмотреть, можно ли их взять с собой, матросы двух других ботов заколачивали пушки и ломали лафеты, а я отправился с О'Брайеном осматривать хижины. Они были, очевидно, только что оставлены своими хозяевами; но мы нашли в них пропасть рыбы, пойманной, казалось, этим утром.
– Черт! – вскричал О'Брайен, указывая на огромную самку ската[14]. – Вот настоящий образ моей бабушки; мы возьмем ее за одно напоминание о моей родине. Питер, всунь ей палец в жабры и тащи к боту.
Я попробовал сунуть палец в ее жабры, но не успел в этом и, полагая, что она уже издохла, запустил его ей в рот. Но я жестоко ошибся, потому что тварь была еще жива, тотчас же сомкнула пасть, прокусила мой палец до кости и стиснула зубы так сильно, что я никак не мог его выдернуть; да и боль была так жестока, что я не решился бы дергать его сильнее. Таким образом я попал в плен к рыбе. Я закричал, к счастью, так громко, что меня услышал О'Брайен, который был уже рядом с ботами и поспешил ко мне на помощь с двумя огромными тресками в руках. Сначала он не мог удержаться от смеха, но, наконец, с помощью ножа заставил рыбу раскрыть рот, и я смог освободить свой жестоко изуродованный палец. Сняв шарф, я привязал его к хвосту ската и потащил к борту, который уже отчаливал. Прочие боты нашли, что неприятельские корабли нельзя взять с собой иначе, как выбросив балласт, а потому по приказанию капитана их зажгли, и, прежде чем мы потеряли их из виду, они уже сгорели до самого трюма. Мой палец болел три недели, и все это время офицеры не переставали смеяться надо мной, говоря, что я едва не попал в плен к «старой деве».
Мы продолжали крейсировать вдоль берегов, пока не вошли в Аркашонский залив, где овладели двумя или тремя кораблями и сверх того загнали множество судов на берег. Здесь с нами случилось приключение, которое показывает, как полезно для военного корабля, чтобы капитан его был хороший моряк и держал свой экипаж в строгом повиновении. Когда уже опасность миновала, я слышал, как офицеры единодушно утверждали, что корабль и экипаж обязаны своим спасением исключительно присутствию духа капитана Савиджа.
Мы загнали неприятельские конвойные корабли в самый конец залива и прижали их к берегу, куда в это время с такой силой били волны, что они непременно должны были разбиться вдребезги, прежде чем успели бы выйти на простор; сделав это, мы начали отходить назад. Ветер дул в ту пору довольно свежий, и так как нам приходилось плыть против него, то мы были вынуждены удвоить рифы на марсстенгах. Погода между тем становилась грозной; через час все небо покрылось сплошной черной тучей, которая спустилась так низко, что почти касалась верхушек мачт. Страшные волны, поднявшиеся вдруг как по мановению волшебника, напирали на нас, подвергая корабль влиянию грозного берегового ветра. С наступлением ночи налетел сильный шквал, и корабль почти исчез под множеством парусов, которые нам пришлось распустить. Если б мы находились в открытом море, то пустили бы в дело одни лееры, но теперь мы решили во что бы то ни стало плыть на всех парусах в надежде проплыть мимо берега, коснувшись его только слегка.
Мы находились между двумя грядами волн, когда море вдруг поднялось, залив водой почти весь корабль от форкастля до нактоуза. И вслед за тем оно опустилось вглубь с такой стремительностью, что, казалось, корабль разлетится надвое от силы удара. Двойные зады были привинчены к пушкам, сверх того их прикрепили к домкрату и прибили крюки к вертлюгам, потому что во время качки мы так сильно опрокидывались на бок, что пушки удерживались только задами и домкратами. Сорвись одна из них с этих поддержек, она непременно перелетела бы через подветренный борт корабля и потонула в волнах.
Капитан, старший лейтенант и большая часть офицеров оставались на палубе в продолжение всей ночи. Гул ветра, проливной дождь, волны, затоплявшие палубу, работа насосов, треск и стоны мачтовых стволов – все это заставляло меня думать, что мы должны погибнуть неизбежно, и я около двенадцати раз принимался молиться, потому что спать было невозможно. Я часто желал из любопытства видеть действие порывистого ветра, но никак не представлял себе сцен подобного рода и не думал, чтоб они могли быть хоть наполовину так страшны. Всего опаснее было то, что мы находились под влиянием берегового ветра, и совещания капитана с офицерами, нетерпение, с которым они ожидали утра, все это доказывало, что нам предстоят еще другие опасности, кроме бури.
Наконец наступило утро, и наблюдатель закричал:
– Земля с подветренной стороны!
Я видел, как шкипер с досадой ударил кулаком по коечным перилам и молча, с печальным видом отошел в сторону.
– Ступайте наверх, мистер Уилсон, – сказал капитан второму лейтенанту, – посмотрите, как далеко простирается земля и виден ли мыс.
Второй лейтенант влез на снасти и оттуда указал на два мыса, находившиеся сбоку корабля.
– Видите вы там два холма?
– Вижу, сэр, – доложил второй лейтенант.
– Ну, так и есть, – сказал капитан, обращаясь к шкиперу. – Если мы обогнем мыс, то у нас будет больше места. Держите круче к ветру, и пусть корабль пробивается сквозь волны! Слышите, квартирмейстер?
– Слышу, сэр.
– Так, и не ближе! Поверните штурвал на одну или на две спицы, если бег корабля слишком быстр; но будьте осторожны, иначе штурвал вырвет из ваших рук.
В эту минуту сцена была величественна. Когда корабль опускался во впадины моря, глазам нашим представлялась пучина возмутившейся воды, но когда он вскидывался на вершины огромных волн, мы видели под собой низкий песчаный берег, покрытый пеной и валунами.
– Корабль хорошо ведет себя, – заметил капитан, подходя к нактоузу и глядя на компас. – Если ветер не отобьет нас, мы обогнем мыс.
Он едва успел сделать это замечание, как паруса затряслись и шумно заполоскались.
– Что там у вас, квартирмейстер?