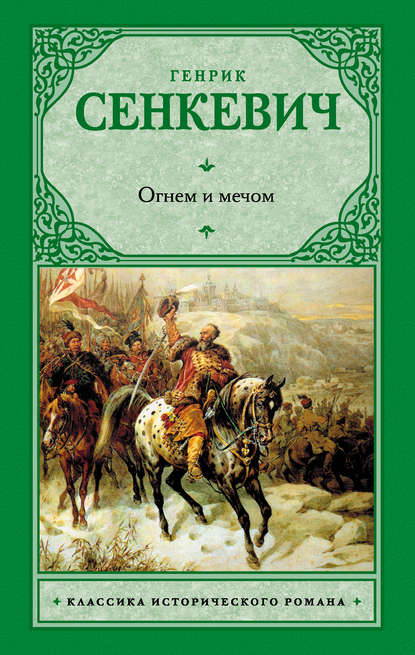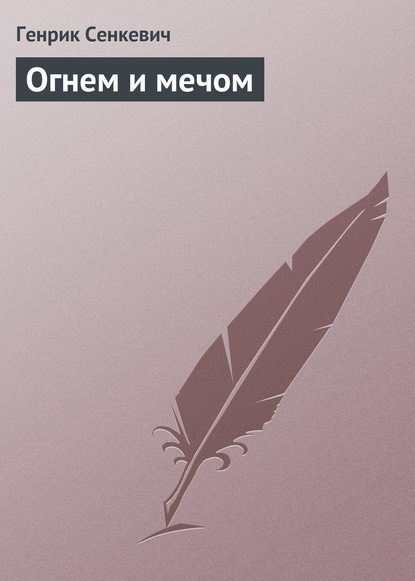полная версия
полная версияПотоп
Шведы стали устанавливать на возвышенностях пушки, возводить окопы, словом, укрепляться, не обращая никакого внимания на град пуль, которые только взрывали землю перед окопами.
Станислав Скшетуский вывел из окопов два полка калишан, рассчитывая смелой атакой смять шведов; но шляхта шла неохотно, отряд растянулся в бесформенную массу – смельчаки мчались вперед, трусы сдерживали своих лошадей. Виттенберг послал против них два полка рейтар, которые после непродолжительной борьбы прогнали шляхту к лагерю.
Между тем наступили сумерки и закончили бескровный бой.
Но выстрелы из пушек не прекращались до поздней ночи; в польском лагере поднялся такой шум, что его слышно было на другом берегу Нотеци. Вызван он был тем, что несколько сот ополченцев, воспользовавшись темнотой, попытались скрыться из лагеря. Заметив это, шляхта их не пустила. Схватились за сабли. Слова: «Или все, или никто» – снова переходили из уст в уста. Но с каждой минутой становилось вероятнее, что уйдут все. Шляхта выражала свое неудовольствие против вождей. «Нас выслали против пушек с голыми руками», – кричали ополченцы.
Это была страшная ночь: беспорядок и суматоха росли с каждой минутой, никто не слушал приказаний. Воеводы потеряли головы и не пробовали даже водворять порядок. Беспомощность их, как и беспомощность войска, сказывалась во всем. Виттенберг мог бы в эту ночь овладеть лагерем почти без боя.
Рассвело. Бледное утро осветило это хаотическое сборище упавших духом людей, частью пьяных, готовых скорее на позор, чем на борьбу. К довершению всего шведы переправились ночью под Дзембовом на другую сторону Нотеци и окружили польский лагерь.
С этой стороны не было почти никаких окопов, и нельзя было защищаться; следовало немедленно же возвести окопы, о чем и заботились более всего Скорашевский и Скшетуский, но их никто не хотел слушать. У вождей и у шляхты на устах было только одно: «Послать парламентеров!» В ответ на предложение поляков в лагерь прибыл великолепный отряд, во главе которого были генерал Виртц и Радзейовский, оба с зелеными ветвями в руках.
Ехали к дому воеводы познанского. По дороге Радзейовский остановился среди толпы шляхты и, сняв шляпу, здоровался со знакомыми, улыбался и наконец произнес громким голосом:
– Мосци-панове, дорогие мои братья! Не тревожьтесь! Мы приехали сюда не как враги. От вас самих зависит прекратить кровопролитие. Если хотите, вместо тирана, посягающего на вашу свободу, мечтающего об absolutum dominium и приведшего отечество к гибели, если хотите – повторяю – иметь государя доброго, великодушного, воина столь славного, что при одном его имени разбегутся все враги Речи Посполитой, то отдайтесь под покровительство его величества, короля Карла-Густава… Мосци-панове, я везу вам обеспечение вашей свободы и религии, от вас самих зависит ваше спасение. Его величество король Карл обещает успокоить казаков и прекратить литовскую войну[11], и он один сумеет это сделать. Сжальтесь же над несчастной отчизной, если не хотите сжалиться над собою…
Голос изменника дрогнул, точно от слез. Шляхта слушала его с изумлением. Кое-где раздавались голоса: «Виват Радзейовский, наш подканцлер!» Между тем он ехал далее, снова раскланивался со шляхтой, и все раздавался его громкий голос. Наконец оба они с Виртцем и всей свитой скрылись в доме воеводы познанского.
Шляхта столпилась перед домом так тесно, что по головам можно было проехать. Она чувствовала и понимала, что там решается участь не только ее, но и всей отчизны. Вдруг вышли слуги воеводы и стали приглашать более знатных лиц в комнаты; за ними пробралось и несколько человек мелкой шляхты, остальные ожидали у крыльца, теснились к окнам, прикладывали Уши даже к стенам.
Царило глубокое молчание. Стоявшие ближе к окнам слышали порою шум громких голосов; но час проходил за часом, а совещание все еще не кончалось.
Вдруг дверь с треском открылась, и на крыльцо выбежал пан Владислав Скорашевский.
Шляхта попятилась в ужасе.
Человек этот, всегда такой спокойный и ласковый, о котором говорили, что под его рукой заживают раны, был теперь страшен. Глаза его были красны, взгляд безумен, платье расстегнуто на груди; обеими руками он держался за голову и, ворвавшись, как ураган, в толпу шляхты, кричал отчаянным голосом:
– Измена! Позор! Мы уже больше не поляки, а шведы!
И он стал рыдать страшным голосом и рвать на себе волосы, как человек, потерявший рассудок. Гробовое молчание царило вокруг. Всеми овладело какое-то страшное предчувствие. Скорашевский вскочил вдруг и опять начал бегать среди шляхты и кричать голосом, полным отчаяния:
– К оружию, к оружию! Кто в Бога верует!
Тогда в толпе послышался какой-то прерывистый шепот, точно первый порыв ветра перед бурей; люди колебались, а в это время трагический голос не переставал повторять:
– К оружию! К оружию!
Вскоре к нему присоединились и два другие: Скшетуского и ротмистра познанского полка, Клодзинского.
Их окружила толпа шляхты. Поднялся грозный ропот; лица вспыхнули огнем, глаза разгорелись, и некоторые хватались за сабли. Наконец Скорашевский овладел собой и, указывая на дом, в котором происходили переговоры, произнес:
– Слышите, мосци-панове. Они там, как Иуды, предают и позорят отчизну. Знайте, что нет уж Польши… Им мало отдать в руки неприятеля вас всех, войско, орудия, весь лагерь. Они еще подписали от нашего имени, что мы отказываемся от связи с отчизной, отрекаемся от государя, что вся страна, все города и крепости на вечные времена принадлежат Швеции. Что сдается войско – это часто бывает; но кто имеет право отрекаться от своей отчизны, государя?! Кто может присоединять отчизну к чужому народу, отрекаться от родной матери?! Ведь это измена, позор, Панове братья! Кто шляхтич, спасайте отчизну. Пожертвуем своей жизнью, прольем кровь до последней капли, но не будем шведами, нет! Пусть бы лучше не родился тот, кто теперь жалеет свою кровь. Спасем мать-отчизну!
– Измена! – крикнуло несколько голосов. – Измена! Руби их!
– Кто чести не потерял, за мной! – кричал Скшетуский.
– На шведа, на смерть! – прибавил Клодзинский.
И они пошли дальше по лагерю с криком: «За нами, за нами! Измена!» – а за ними пошло несколько сот человек шляхты с обнаженными саблями.
Но большинство осталось на месте, да и те, что пошли, как только заметили, что их мало, начали приостанавливаться и оглядываться на других.
В это время дверь дома открылась снова, и на пороге появился воевода познанский Кристофор Опалинский в сопровождении генерала Виртца и Радзейовского, за ними шли: Андрей Грудзинский, Максимилиан Мясковский, Павел Гембицкий и Андрей Слупский.
Опалинский держал в руке сверток пергамента со свешивающимися печатями; голову он держал высоко, но лицо его было бледно, хотя он старался казаться веселым. Окинув взглядом толпу, среди которой царило мертвое молчание, он отчетливо, слегка хриповатым голосом произнес:
– Мосци-панове, с сегодняшнего дня мы отдаемся под покровительство его величества короля шведского. Да здравствует король Карл-Густав!
Молчание было ему ответом; вдруг загремел чей-то голос:
– Veto![12]
Воевода взглянул туда, откуда раздался голос, и ответил:
– Здесь не сеймик, veto неуместно. Кто хочет перечить, пусть идет под шведские пушки, которые через час превратят лагерь в развалины.
После минутного молчания он спросил:
– Кто сказал «veto»?
Никто не откликнулся.
Воевода продолжал еще более отчетливым голосом:
– Свобода шляхты и духовенства будет сохранена; подати не будут увеличены и будут собираться в том же порядке, как и раньше. Теперь никто уже не будет терпеть ни обид, ни грабежей; войска его величества будут иметь право постоя в шляхетских имениях, но шляхта не обязана их содержать.
Он замолчал и жадно слушал шум голосов в толпе, точно силясь понять его смысл. Потом опять поднял руку:
– Кроме того, мы заручились словом генерала Виттенберга, данным от имени короля, что если вся страна последует нашему примеру, то войска его пойдут на Литву и Украину и будут драться до тех пор, пока все замки не будут возвращены Речи Посполитой. Да здравствует король Карл-Густав!
– Да здравствует король Карл-Густав! – пронеслось по всему лагерю.
Тут, на глазах у всех, воевода стал обниматься с Радзейовском и Виртцем, а затем его примеру последовали другие. Радостные крики огласили воздух. Но воевода познанский просил еще слова:
– Мосци-панове, генерал Виттенберг приглашает нас к себе на пир, чтобы за бокалами вина скрепить братский союз с мужественным народом.
– Да здравствует Виттенберг! Виват! Виват!
– А затем, мосци-панове, мы разойдемся по домам и с Божьей помощью примемся за жатву, с той мыслью, что спасли сегодня нашу отчизну от гибели.
– История воздаст вам должное! – сказал Радзейовский.
– Аминь! – закончил воевода познанский.
Вдруг он заметил, что глаза всех устремлены на что-то над его головой. Обернувшись, он увидел, что его шут, поднявшись на цыпочки и одной рукой держась за дверь, пишет на стене углем: «Мене – Текел – Фарес»[13]. Небо было покрыто тучами; собиралась буря.
XI
В деревне Буржец, расположенной на границе Полесского воеводства и принадлежавшей в то время Скшетуским, в саду, между домом и прудом, сидел на скамейке старик, а у его ног играли два мальчика, четырех и пяти лет, загорелые и черные, как цыганята, здоровые и румяные. У старика тоже был бодрый вид. Время не согнуло его широких плеч, по взгляду его глаз, или, вернее, одного глаза, так как другой был покрыт бельмом, было видно, что он пользуется цветущим здоровьем и хорошим расположением духа; у него была седая борода, лицо красное, а на лбу широкий рубец, под которым виднелась кость черепа.
Оба мальчика, схватившись за уши голенищ его сапог, тащили их в разные стороны, а он между тем смотрел на освещенный солнечными лучами пруд, где весело прыгали рыбки, зыбля гладкую поверхность воды.
– Рыбы пляшут, – пробормотал он про себя. – Погодите, не так вы запляшете на столе, когда вас кухарка ножом будет чистить.
Потом он обратился к мальчикам:
– Да отвяжитесь наконец, сорванцы; если кто-нибудь из вас оторвет мне ухо от голенища, я ему тоже уши оборву. Что за несносные жуки! Идите и кувыркайтесь на траве, а меня оставьте в покое; я не удивляюсь Лонгину – он маленький, но ты должен уже быть умнее, Еремка. Вот схвачу вас да и брошу в пруд.
Но эта угроза, видимо, не особенно испугала их; напротив, старший, Еремка, стал еще сильнее теребить голенище, топоча ножками и повторяя:
– Если бы ты, дедушка, был Богуном и схватил Лонгина.
– Говорю тебе, отвяжись от меня, жук ты этакий.
– Если бы ты был Богуном…
– Я тебе задам Богуна… Вот сейчас мать позову.
Еремка взглянул на дверь, ведущую из дома в сад, но, не видя нигде матери, еще раз повторил, вытягивая губы:
– Если бы ты был Богуном…
– Замучат меня эти бесенята… Ну хорошо, я буду Богуном, но только один раз. Наказание Божье с ними. Помни, чтобы это было в последний раз!
С этими словами старик со вздохом поднялся со скамьи, схватил маленького Лонгина и, издав дикий крик, понес его по направлению к пруду.
Но у Лонгина был надежный защитник в лице Еремки, который в таких случаях назывался не Еремкой, а драгунским ротмистром паном Володыевским.
Пан Михал, вооружившись липовым прутом, заменявшим в данном случае саблю, пустился в погоню за толстым Богуном, догнал его наконец и стал немилосердно хлестать его по ногам.
Лонгинек, играющий в эту минуту роль матери, кричал, Богун кричал, Еремка-Володыевский тоже кричал; наконец мужество одержало верх, и Богун, выпустив свою жертву, начал удирать назад под липу, затем сел на скамью и, запыхавшись, сказал:
– Ах вы, басурманы! Чудо будет, если я не задохнусь…
Но этим не кончились его мучения, через минуту перед ним опять стоял Ерема с разрумянившимся лицом, растрепанными волосами, раздувающимся ноздрями и похожий на маленького ястреба и еще настойчивее повторял:
– Если бы ты, дедушка, был Богуном…
Затем, после усиленных просьб и торжественного обещания, что это в последний раз, опять повторилась та же история, потом они сели на скамью, и Еремка стал спрашивать:
– Дедушка, скажи, пожалуйста, кто из нас самый храбрый.
– Ты, ты, – ответил старик.
– И когда вырасту, я буду рыцарем?
– Еще бы… В тебе настоящая рыцарская кровь. Дай Бог, чтобы ты был похож на отца; тогда ты будешь не только храбр, но и не так надоедлив… Понимаешь?
– Скажи, сколько человек папа убил?
– Да я уже сто раз говорил. Скорее можно было бы сосчитать листья на этой липе, чем всех тех врагов, которых мы убили с твоим отцом. Если бы у меня было столько волос на голове, сколько я их сам уложил, то цирюльники давно бы нажили состояние. Будь я шельма, если я солг…
Тут Заглоба – это был он – вспомнил, что ему не годится в присутствии детей ни ругаться, ни божиться, и он, хотя и любил, за недостатком других слушателей, рассказывать о своих подвигах детям, умолк, тем более что в эту минуту рыбы в пруде начали прыгать и гоняться друг за другом еще сильнее.
– Нужно сказать садовнику, – произнес он, – на ночь поставить верши; много рыбы у самого берега.
Вдруг дверь дома отворилась, и в ней появилась молодая женщина, прелестная, как южное солнце, высокая, стройная, черноволосая, с ярким румянцем на щеках и с глазами как бархат. Трехлетний мальчик, такой же черный, как она, держался за ее платье, а она, прикрыв рукой глаза от солнца, стала смотреть по направлению к липе.
Это была Елена Скшетуская, урожденная княжна Булыга-Курцевич.
Увидев пана Заглобу с Еремкой и Лонгином, она подошла к канаве, наполненной водой, и крикнула:
– Дети, сюда. Вы там, верно, надоедаете дедушке.
– Зачем надоедают. Очень прилично себя ведут, – ответил пан Заглоба.
Мальчики подбежали к матери, а она спросила:
– Отец, что вы сегодня будете пить: дубнячок или мед?
– На обед была свинина, так мед будет соответственнее.
– Сейчас пришлю. Но вы, отец, не спите в саду, а то ведь лихорадку схватите.
– Сегодня тепло и не ветрено. А где же Ян, доченька?
– Пошел в ригу.
Пани Скшетуская называла Заглобу отцом, а он ее дочерью, хотя они вовсе не были родными. Ее родня жила в Заднепровье, в прежнем княжестве Вишневецком, а что касается его, то один Бог знал, откуда он был родом, ибо сам разно об этом говорил. Но в то время, когда она еще была девушкой, Заглоба оказал ей немало услуг, не раз спасал от страшных опасностей, и оба они с мужем чтили его, как родного отца. Впрочем, он пользовался огромным уважением всех окрестных жителей благодаря необыкновенному уму и необыкновенному мужеству, выказанному им во время войны с казаками.
Имя его гремело по всей Речи Посполитой; сам король восхищался его остротами, и вообще о нем говорили больше, чем о Скшетуском, хотя он некогда пробрался из осажденного Збаража сквозь все казачьи войска.
Несколько минут спустя после ухода пани Скшетуской казачок принес под липу ковш меду. Пан Заглоба налил, затем закрыл глаза и, хлебнув глоток, стал смаковать.
– Знал Господь, для чего создал пчел, – пробормотал он. И стал попивать маленькими глотками, тяжело вздыхая и поглядывая на пруд, на лес вдали, синевший на том берегу.
Было два часа пополудни, на небе ни облачка. Липовый цвет падал без шелеста на землю, а на липе, между листьями, пел целый хор пчел, которые садились на край стакана и стали собирать своими косматыми ножками сладкий напиток.
Над огромным прудом, с отдаленных тростников, поднимались время от времени стаи диких уток и гусей и реяли в прозрачно-голубой выси. Иногда чернела в вышине стая журавлей, оглашая воздух громким криком.
Глаза старика то поднимались к небу, то устремлялись вдаль; наконец, по мере того как убывал мед из кувшина, веки его стали тяжелеть, а пчелы продолжали петь свою песню, точно убаюкивая его.
– Да, Бог дал дивную погоду для жатвы, – пробормотал пан Заглоба. – Сено уже убрали, да и с жатвой скоро покончат… Да…
Он закрыл глаза, потом опять открыл их, пробормотал: «Замучили меня ребятишки» – и уснул…
Заглоба спал долго. Его разбудил прохладный ветерок и разговор двух мужчин, приближавшихся к липе. Один из них был пан Ян Скшетуский, збаражский герой, оставшийся дома лечиться от упорной лихорадки; второго пан Заглоба не знал, хотя он был очень похож на Яна.
– Позвольте вам, отец, представить моего двоюродного брата, – сказал Ян, – калишского ротмистра Станислава Скшетуского.
– Вы так похожи на Яна, – произнес Заглоба, протирая глаза, – что где бы я вас ни встретил, непременно бы сказал: «Скшетуский». Вы – дорогой гость.
– Мне очень приятно познакомиться с ваць-паном, – ответил Станислав, – ибо имя ваше повторяет с благоговением вся Речь Посполитая.
– Не хвастая, скажу: делал я что мог, пока чувствовал себя сильным. Я и теперь не отказался бы от войны, потому что привычка – вторая натура. Но скажите, Панове, чем вы оба так опечалены? Ян даже побледнел.
– Станислав привез ужасные вести, – ответил Ян. – Шведы вошли в Великопольшу и заняли ее целиком своими войсками.
Пан Заглоба так быстро вскочил со скамьи, точно у него с плеч свалилось сорок лет; потом широко раскрыл глаза и невольно стал ощупывать левый бок, словно искал саблю.
– Как?! – воскликнул он. – Неужели они в самом деле ее заняли?!
– Потому что воевода познанский и другие сами отдали ее в руки неприятеля под Устьем, – ответил Станислав.
– Ради бога… Что вы говорите?! Неужто они сдались?
– Не только сдались, но и подписали договор, в котором отреклись от короля и Речи Посполитой. Отныне там уже будет Швеция, а не Польша.
– Боже милосердный… Видно, уж конец света! Что я слышу… Мы еще вчера с Яном говорили об этом. Мы слышали, что они идут, но были уверены, что все кончится ничем, а в крайнем случае тем, что наш король откажется от шведского титула.
– А между тем началось с потери провинции, а кончится бог знает чем.
– Не говорите, ваць-пане, со мной удар сделается. Как же это? И вы были под Устьем? И вы видели это собственными глазами? Да ведь это была измена, страшная, не слыханная ни в одной истории…
– Да, я был и видел все собственными глазами, а была ли это измена – вы скажете, когда я вам расскажу все. Все мы вместе с ополчением стояли под Устьем, и было нас около пятнадцати тысяч. Правда, войска было мало, а вы, как человек сведущий, знаете лучше других, что ополченцы, в особенности великопольские, где шляхта совсем отвыкла от войны, не могут его заменить. И все же если бы нашелся настоящий вождь, можно было бы, по крайней мере, задержать неприятеля до тех пор, пока не подоспела бы помощь. Но только лишь показался Виттенберг, как уже начались переговоры. Потом приехал Радзейовский и своими доводами склонил всех сделать все то, о чем я уже говорил, то есть пойти на неслыханный позор.
– Как так? И никто не протестовал? Никто не назвал их изменниками? Все согласились на измену королю и отчизне?
– Гибнет добродетель, а с нею и Речь Посполитая… Почти все согласились. Я, двое Скорашевских, Цисвицкий и Клодзинский употребляли все усилия, чтобы воодушевить шляхту; мы бегали по лагерю от полка к полку и умоляли их не губить отчизны. Но это не помогло: большинство предпочло лучше ехать с ложками на пир к Виттенбергу, кто по домам, кто в Варшаву, уведомить обо всем короля, а я приехал к брату, надеясь, что, быть может, мы вместе пойдем против неприятеля. Какое счастье, что я вас застал дома.
– Так вы прямо из-под Устья?
– Да. Я ехал сюда почти без отдыха, одна лошадь даже пала от усталости. Шведы теперь, вероятно, в Познани и скоро наводнят всю страну.
Все умолкли. Ян сидел, закрыв лицо руками, Станислав вздыхал, Заглоба смотрел то на одного, то на другого.
– Это дурное предзнаменование, – сказал, наконец, Ян. – Прежде на десять побед приходилось одно несчастье, и мы удивляли весь мир своим мужеством! Теперь же кроме поражений случилась еще и измена, и не единичных лиц, а целых провинций. Боже, смилуйся над отчизной!
– Боже… Много я видел на свете, но и то ушам своим не верю, – сказал Заглоба.
– Ну а ты, как решил? – спросил Станислав.
– Конечно, дома не останусь, хотя меня еще трясет лихорадка. Жену и детей нужно будет услать куда-нибудь в безопасное место. Мой родственник, королевский ловчий, пан Стабровский, живет в Беловеже. Если даже вся Речь Посполитая будет в руках шведов, то все-таки они туда не доберутся. Завтра же я отошлю жену и детей.
– Эта предосторожность не будет излишней, – ответил Станислав. – Правда, что отсюда до Великопольши далеко, но кто может поручиться, что пламя войны не охватит и наших краев.
– Нужно будет дать знать шляхте, – сказал Ян, – чтобы она позаботилась о защите, здесь никто еще ни о чем не знает.
Затем он обратился к Заглобе:
– Ну а вы, отец, пойдете с нами или останетесь с Еленой?
– Я? – сказал Заглоба. – Пойду ли? Если бы мои ноги вросли в землю, то я бы и тогда постарался их вырвать. Мне так хочется снова попробовать шведского мяса, как волку – баранины. Черти! Нехристи! Должно быть, их блохи одолели, вот ноги и чешутся, не сидится им на месте, лезут в чужие края. Знаю я их хорошо, собачьих детей. Я воевал против них с Конецпольским, и если хотите знать, кто взял в плен Густава-Адольфа, – спросите хоть покойного пана Конецпольского, я больше ничего не скажу. Знаю я их, но и они меня знают. Не иначе как узнали, шельмы, что Заглоба состарился… Погодите, вы еще его увидите! Господи милосердный, зачем ты так разгородил эту несчастную Речь Посполитую, что все соседние свиньи в нее лезут; вот и теперь три лучшие провинции изрыли. Вот что. А кто этому виной, как не изменники?! Не знала зараза, кого брать, и честных людей забрала, а изменников оставила. Пошли ее, Боже, на воеводу познанского и воеводу калишского, а прежде всего на Радзейовского со всей его семьей. А если хочешь население ада увеличить, то пошли туда всех, кто под Устьем подписал капитуляцию. Состарился Заглоба? Вы увидите, как состарился. Ян, решай скорее, что нам делать, а то мне уж на коня хочется.
– Конечно, нужно решить. На Украину к гетманам трудно пробраться, неприятель отрезал их от Речи Посполитой; остается свободной только дорога в Крым. Счастье, что татары на нашей стороне. По-моему, лучше всего нам ехать в Варшаву, защищать нашего дорогого государя.
– Как бы нам только не опоздать, – ответил Станислав. – Его величество теперь наспех собирает полки против неприятеля и, может, уже выступил против него.
– И это может быть.
– Значит, едем в Варшаву, только поскорее, – сказал Заглоба. – Послушайте, панове. Хотя наши имена и страшны для неприятеля, но втроем мы сделаем не много, и я посоветовал бы кликнуть охотников и собрать хоть небольшой отряд в подмогу королю. Я думаю, что их легко будет уговорить, так как им все равно придется идти в ополчение. С большей силой можно больше и сделать, да и нас примут с распростертыми объятиями.
– Не удивляйтесь моим словам, – сказал Станислав, – но после того, что я видел, я питаю такое отвращение к ополченцам, что предпочитаю идти лучше один, чем с толпой людей, несведущих в военном деле.
– Вы не знаете здешней шляхты. Здесь вы ни одного человека не найдете, который бы не служил в военной службе. Все они прекрасные и опытные солдаты.
– Разве что так.
– Да как же может быть иначе? Но погодите. Ян уже знает, что если моя голова начнет работать, то что-нибудь придумает. Поэтому я жил в такой дружбе с русским воеводой, князем Еремией. Ян может подтвердить, сколько раз этот первый в мире воин слушался моих советов и никогда об этом не жалел.
– Говорите скорее, отец, что вы хотели, а то время дорого, – сказал Ян.
– Что я хотел сказать? А вот что: я хотел сказать, что не тот защищает отчизну и короля, кто держится за его полы, но тот, кто бьет неприятеля; а бьет тот, кто служит под начальством великого полководца. Зачем идти в Варшаву, когда король уже, быть может, выехал в Краков, в Львов или на Литву? Я советую отправиться без промедления под знамена великого гетмана, князя Януша Радзивилла. Хотя его и упрекают в честолюбии, но он, конечно, не пойдет на капитуляцию со шведами. Это, по крайней мере, настоящий вождь И гетман. Правда, тесновато нам тут будет, придется иметь дело с двумя врагами, но зато мы увидим пана Михала Володыевского и по-прежнему станем служить вместе. Если мой совет не хорош, то пусть меня первый швед проткнет шпагой.
– Кто знает, может быть, так будет лучше всего, – ответил с живостью Ян. – По дороге и Гальшку отвезем в пущу с детьми, ведь нам все равно ехать мимо.
– И будем служить в войске, а не с ополченцами, – прибавил Станислав.
– И будем драться, а не спорить на сеймиках да кур и творог поедать в деревнях.