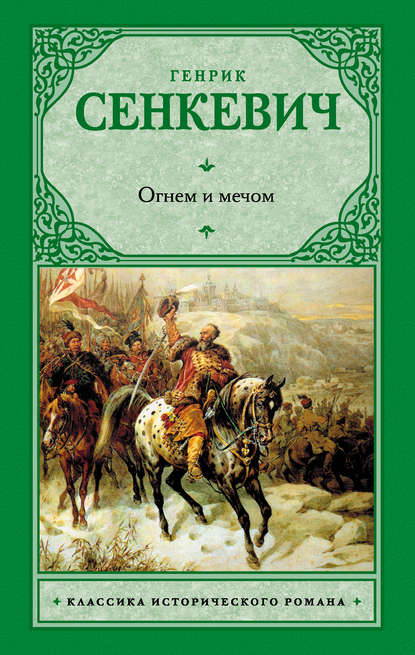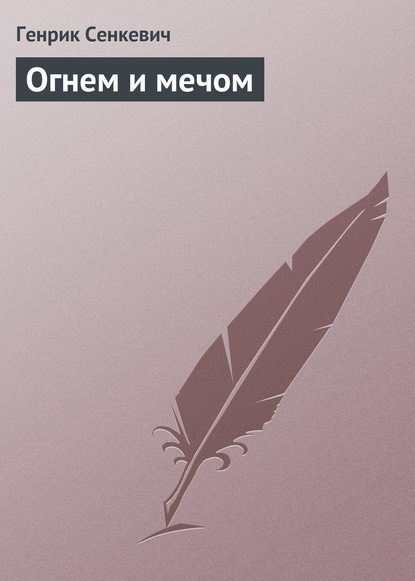полная версия
полная версияПан Володыевский
– Рущиц едет в Крым, я приму его полк. Пан Нововейский не ошибся, что весной дороги зачернеют.
– Да разве мы одни обязаны охранять Речь Посполитую от разбойников, как цепная собака – дом? – воскликнул Заглоба. – Многие не знают, каким концом стрелять из мушкета, а нам никогда нет отдыха.
– Ну будет! Есть о чем говорить! – отвечал Володыевский. – Служить так служить. Я дал слово гетману, что поеду, а раньше или позже, это решительно все равно…
Тут пан Володыевский приставил палец ко лбу и повторил тот аргумент, который уже сослужил ему службу в разговоре с Кшисей:
– Если я столько лет откладывал мое счастье, чтобы служить Речи Посполитой, могу ли я теперь не отложить того утешения, которое я нахожу в вашем обществе?
На это никто не ответил; одна только Бася надула губки, как капризный ребенок, и сказала:
– Жаль пана Михала! Володыевский весело рассмеялся.
– Да пошлет вам Бог счастья! Но ведь вы еще вчера говорили, что терпеть меня не можете, как какого-нибудь дикого татарина!
– Еще что! Как дикого татарина! Совсем я этого не говорила. Вы там будете татарами тешиться, а нам здесь будет скучно без вас!
– Утешьтесь, гайдучок (простите, что я вас так называю, но это к вам так подходит!). Пан гетман сказал, что я еду ненадолго. Через неделю или через две я вернусь, чтобы к выборам быть в Варшаве. Если гетману так угодно, то так и будет, если бы даже Рущиц не возвратился еще из Крыма.
– Ну вот и превосходно!
– И я поеду с паном полковником, непременно поеду, – сказал Нововейский, пристально глядя на Басю.
– Таких, как вы, будет немало! Приятно служить под таким начальством. Поезжайте! Поезжайте! Пану Михалу будет веселее, – сказала Бася.
Юноша только вздохнул и провел широкой ладонью по волосам, потом, Расставив руки, чтобы ловить Басю, воскликнул:
– Но сначала поймаю панну Барбару! Ей-богу, поймаю!
– Алла! Алла! – воскликнула Бася, пятясь назад.
Между тем Дрогоевская подошла к Володыевскому с прояснившимся лицом и сказала:
– Нехороший, нехороший вы, пан Михал: с Басей вы добрее, чем со мной.
– Я недобр с вами? Я добрее с Басей? – спросил с удивлением рыцарь.
– Басе вы сказали, что вернетесь к выборам, а ведь, если бы я это знала, я не приняла бы к сердцу ваш отъезд.
– Мое золото! – воскликнул пан Михал.
Но он тотчас же спохватился и сказал:
– Мой дорогой друг! Я уж сам не понимаю, что говорю, потому что потерял голову!
IX
Пан Михал начал понемногу готовиться к отъезду, не переставая давать уроки Басе, которую он любил все больше и больше, и продолжая гулять наедине с Кшисей Дрогоевской и искать у нее утешения. Казалось, что он находит его: настроение его с каждым днем улучшалось, а по вечерам он иной раз принимал участие в играх Баси и Нововейского.
Молодой кавалер стал желанным гостем в доме Кетлинга. Он приезжал с утра или тотчас после полудня и оставался до вечера, а так как все его очень любили, то вскоре все стали смотреть на него как на члена семьи. Он провожал дам в Варшаву, исполнял их поручения в галантерейных лавках, по вечерам с увлечением играл в жмурки, все повторяя, что он непременно должен перед отъездом поймать неуловимую Басю.
Но она всегда ускользала от него, хотя Заглоба и говорил ей:
– Поймает тебя, наконец, не этот, так другой!
Но становилось все очевиднее, что именно этот и хотел поймать ее. Должно быть, и гайдучку это приходило в голову; по временам он так задумывался, что волосы совсем закрывали его глаза. Пану Заглобе это было не на руку, – у него на то были свои основания. Как-то вечером, когда все уже разошлись, он постучался в комнату маленького рыцаря.
– Мне так грустно, что приходится расставаться, – сказал он. – Я пришел сюда, чтобы еще немного поглядеть на тебя. Бог знает, когда мы увидимся!
– К выборам я непременно приеду, – ответил, обнимая его, пан Михал, – и скажу вам почему: гетман хочет, чтобы во время выборов здесь было как можно больше людей, которых любит шляхта, чтобы они старались вербовать побольше сторонников его кандидату. А так как, благодарение Богу, мое имя пользуется доброй славой у братьев-шляхты, то, вероятно, он меня и вернет. Он рассчитывает и на вас.
– Ну, хочет поймать меня большим неводом, но мне кажется, что хотя я и толст, а выскользну в какую-нибудь петлю этой сети. Не буду я голосовать за француза.
– Почему?
– Потому что это приведет к неограниченности королевской власти.
– Но ведь Конде[12] присягнет конституции, как присягали и другие. Полководец же он великий, прославившийся военными подвигами.
– Слава богу, нам не нужно искать полководцев во Франции. И сам пан Собеский, конечно, не хуже Конде. Заметь, Михал, французы так же, как и шведы, ходят в чулках, а потому, вероятно, как и шведы, они не сдерживают клятв. Carolus Gustavus готов был присягать каждую минуту. Для них это все равно что орех раскусить. Что толку в присяге, когда совести нет.
– Но ведь Речь Посполитая нуждается в защите. Эх, если бы был жив князь Еремия Вишневецкий! Мы избрали бы его королем единогласно!
– Жив его сын. Та же кровь!
– Та, да не та! Жаль смотреть на него, он скорее на слугу похож, чем на князя такой знатной крови. Если бы еще были другие времена. Теперь главная забота – благо отчизны. То же самое скажет тебе и Скшетуский. Я сделаю то, что сделает гетман, ибо я верю, как в Евангелие, в его искреннюю любовь к отчизне.
– Да, пора об этом подумать! Жаль, что ты теперь уезжаешь!
– А что вы будете делать?
– Я вернусь к Скшетуским. Мальчуганы там иной раз мне надоедают, но, когда я их долго не вижу, мне скучно без них.
– Если после выборов будет война, то и Скшетуский пойдет. Да кто знает, может быть, и вы еще пойдете в поход. Может быть, будем вместе на Руси воевать. Столько испытали мы там и хорошего, и дурного…
– Правда! Ей-богу, правда! Там прошли наши лучшие годы. И как иной раз хочется взглянуть на все те места, которые были свидетелями нашей славы.
– Так поедемте со мной теперь! Нам будет весело, и через пять месяцев мы вернемся опять к Кетлингу. Тогда будет и он, и Скшетуские…
– Нет, Михал, теперь мне нельзя, но зато обещаю тебе, что если ты женишься на какой-нибудь панне с Руси, то я тебя туда провожу и буду вас там водворять.
Володыевский смутился немного, но сейчас же ответил:
– Куда мне думать о женитьбе! Лучшее доказательство то, что я отправляюсь на службу.
– Вот это и огорчает меня; я все думал: не одна, так другая. Михал, побойся Бога, подумай, где и когда найдешь более подходящий случай, чем теперь? Помни, что придет время, когда ты скажешь сам себе: у всякого есть жена, дети, а я одинок как перст! И охватит тебя грусть и тоска ужасная! Если бы ты женился на той бедняжке, если бы она оставила тебе детей, – ну, тогда я оставил бы тебя в покое; но ведь так может наступить время, когда ты напрасно будешь искать вокруг близкого человека и сам себя спросишь: «Не на чужбине ли я живу?»
Володыевский молчал и раздумывал, а пан Заглоба продолжал, пристально глядя в глаза маленькому рыцарю:
– В душе и в мыслях я назначил тебе того розовенького гайдучка, ибо, во-первых, это золото, а не девка, а во-вторых, таких завзятых воинов, каких бы вы произвели на свет, до сих пор еще, верно, не бывало на земле.
– Это ветер. Впрочем, там Нововейский уже расставил сети!
– Вот, вот! Сегодня она еще непременно предпочтет тебя, ибо влюблена в твою славу. Но когда ты уедешь, а он останется (а я знаю, что он останется, шельма, потому что это ведь не война), – что будет тогда – кто знает?
– Баська – ветер! Пусть ее Нововейский берет. Я искренне ему этого желаю, он прекрасный малый.
– Михал, – сказал Заглоба, заламывая руки, – подумай, что это за потомство будет!
На это маленький рыцарь наивно ответил:
– Я знал двух Балей, сыновей урожденной Дрогоевской, и это были тоже превосходные солдаты!
– А, попался! Вот куда ты метишь! – воскликнул Заглоба.
Володыевский страшно смутился. С минуту он только поводил усиками, думая этим скрыть свое смущение, наконец сказал:
– Что вы говорите! Никуда я не мечу, но раз вы заговорили о воинственном духе Баси, то мне сейчас же пришла в голову Кшися, в которой гораздо более женственности. Когда говорят про одну, невольно приходит в голову другая – они ведь всегда вместе.
– Ладно, ладно! Благослови тебя Господь с Кшисей, хотя, Богом клянусь, будь я мужчина, непременно бы по уши влюбился в Басю. Такую жену нет надобности и во время войны оставлять дома: можно ее взять с собой и держать при себе. Такая и в палатке пригодится, а случись с нею что-нибудь даже во время битвы, она хоть одной рукой из ружья стрелять будет… А какая честная и добрая! Эх, гайдучок мой миленький! Не оценили тебя здесь, неблагодарностью отплатили! Но будь мне лет на пятьдесят меньше, уж я бы знал, кому надо быть пани Заглобой.
– Я не умаляю достоинств Баси!
– Не в том дело, умаляешь ли ты ее достоинства, а в том, что ты не желаешь прибавить ей еще мужа. Ты предпочитаешь Кшисю!
– Кшися – мой друг!
– Друг, а не подруга? Уж не потому ли, что у нее усики? Твои друзья: я, Скшетуский и Кетлинг! Тебе не друг, а подруга нужна. Пойми это раз и навсегда. Остерегайся, Михал, друга из женского полку, хоть и с усиками, – не то либо ты ему изменишь, либо он тебе изменит! Дьявол не спит и всегда рад такой дружбе. Пример: Адам и Ева; так они подружились, что Адаму эта дружба костью поперек горла стала.
– Вы Кшисю не оскорбляйте, – я этого ни за что не допущу!
– Пусть Бог ей поможет в ее добродетели! Нет лучше моего гайдучка, но и она девушка хорошая. Я не оскорбляю ее нисколько, но только скажу тебе, что когда ты сидишь около нее, то щеки у тебя горят, точно их тебе нащипали, и усами шевелишь, и волосы у тебя привстают, и сопишь ты, и топчешься на одном месте, как конь-гривач, а все это признаки страстей! Ты другому о дружбе рассказывай, а не мне, я ведь старый воробей!
– Такой старый, что видите даже то, чего нет.
– Дай Бог, чтобы я ошибался! Дай Бог, чтобы тут дело касалось моего гайдучка! Спокойной ночи, Михал, спокойной ночи! Бери гайдучка! Гайдучок еще красивее! Бери гайдучка, бери гайдучка!..
Сказав это, пан Заглоба встал и вышел из комнаты.
Пан Михал ворочался всю ночь и не мог спать, – тревожные мысли не давали ему покоя. Перед его глазами вставало лицо Дрогоевской, ее очи с длинными ресницами и ее губы, покрытые легким пушком. Порой он начинал дремать, но видения все продолжались. Просыпаясь, он думал о словах Заглобы и вспоминал, как редко этот человек в чем-нибудь ошибался. Иной раз перед ним мелькало не то во сне, не то наяву розовенькое личико Баси, и ее вид успокаивал его; но снова Басю сменяла Кшися. Повернется бедный рыцарь к стене и видит ее очи, а в них какую-то манящую томность. По временам эти очи закрывались и будто говорили: «Да будет воля твоя!» Пан Михал даже садился на постели и крестился. Под утро сон совсем бежал прочь. Зато ему стало тяжело и неприятно. Было стыдно, что он видел перед собой не ту – покойную, что душа его была полна не ею, а другой, живой. И он горько упрекал себя за это. Ему казалось, что он согрешил, изменил памяти Ануси, и, поворочавшись еще немного, он спрыгнул с постели и, хотя было еще темно, стал читать утренние молитвы. А когда кончил, схватился за голову и сказал:
– Надо скорее ехать и удержаться от этой дружбы: пан Заглоба, может быть, прав.
Потом, уже более веселый и спокойный, он пошел завтракать. После завтрака он фехтовал с Басей и тут он в первый раз заметил, как удивительно была она красива – с раздувающимися ноздрями и волнующейся от быстрых движений грудью – трудно было глаза оторвать. Казалось, он избегал Кшиси, которая, заметив это, смотрела на него удивленными, широко раскрытыми глазами. Он избегал даже ее взгляда. И хотя сердце у него разрывалось на части, но он выдержал.
После обеда он пошел с Басей в кладовую, где у Кетлинга был другой склад оружия. Он показывал ей военные принадлежности, объяснял их назначение. Потом они стреляли в цель из астраханских луков.
Девушка была очень счастлива и так расшалилась, что пани Маковецкой пришлось ее останавливать.
Так прошло два дня. На третий день оба они с Заглобой поехали в Варшаву, в Даниловичевский дворец, чтобы узнать о времени отъезда; вечером пан Михал объявил дамам, что через неделю он уезжает.
Он старался сказать это беззаботным и веселым тоном. На Кшисю он не взглянул ни разу.
Встревоженная девушка несколько раз обращалась к нему с вопросами; он отвечал вежливо, дружелюбно, но больше занимался Басей.
Заглоба, думая, что все это следствие его советов, потирал руки от удовольствия. А так как ничто не могло укрыться от его глаз, то он заметил грусть Кшиси.
– Огорчилась! Вижу, что огорчилась! – думал он. – Ну, ничего! Такова уж женская натура. Но Михал повернул с места и скорее, чем я думал. Молодец парень! Но что касается чувства, он ветер – был, есть и будет!
У пана Заглобы сердце было доброе, а потому ему стало жаль Кшисю.
– Прямо я ей ничего не скажу, но надо чем-нибудь ее утешить.
Пользуясь правами, которые ему давали его годы и седина, он подошел к ней после ужина и начал ее гладить по ее шелковистым, черным волосам. Она сидела молча и глядела на него, подняв свои кроткие глаза, слегка удивленная этой нежностью, но благодарная.
Вечером у дверей комнаты, где спал Володыевский, Заглоба толкнул маленького рыцаря в бок.
– А что? – сказал он. – Нет лучше моего гайдучка?
– Милая козочка! – ответил Володыевский. – Она одна за четырех солдат в комнате шуму наделает. Спокойной ночи!
– Спокойной ночи! Удивительные существа эти женщины! Вот ты немножко около Баси увивался, а Кшися уже и загрустила, ты заметил?
– Нет… не заметил, – возразил маленький рыцарь.
– Она точно подкошенная…
– Спокойной ночи! – повторил Володыевский и поспешно вошел в свою комнату.
Пан Заглоба все же ошибся, рассчитывая на ветреность Володыевского, и поступил опрометчиво, заговорив об огорчении Кшиси. Пана Михала это так тронуло, что у него даже что-то сдавило горло.
«Вот как я отплатил ей за ее доброе отношение ко мне, за то, что она как сестра утешала меня в печали! – сказал он про себя. – Но что же я ей сделал дурного? – подумал он после минутного раздумья. – Что я сделал? Не обращал на нее внимания в течение трех дней? И это было даже неучтиво с моей стороны. Не обращал внимания на эту кроткую, милую девушку. За то, что она хотела залечить мои раны, я ей отплатил неблагодарностью. Если бы я мог, не преступая границ, умерять эту небезопасную дружбу и не обижать ее; но, видно, для такого обхождения у меня не хватает ума».
Пан Михал был зол на себя, и вместе с тем в его сердце проснулась жалость к Кшисе. Он невольно думал о ней, как об обиженном и любимом существе. И недовольство собой возрастало в нем с каждой минутой.
– Я варвар, варвар! – повторял он. Кшися совершенно вытеснила Басю из его головы. – Пусть кто хочет берет эту козу, эту мельницу, эту трещотку! – говорил он. – Нововейский ли, дьявол ли, мне все равно!
И его охватил гнев на ни в чем не повинную Басю, и ему даже в голову не пришло, что этим гневом он обижает ее больше, чем Кшисю своим притворным равнодушием.
Кшися между тем женским чутьем тотчас же догадалась, что в Володыевском происходит какая-то перемена. Ей было и неприятно, и грустно, что маленький рыцарь, видимо, избегает ее, но в то же время она понимала и то, что их отношения должны измениться, – что они либо сблизятся еще больше, либо разойдутся.
Ею овладело беспокойство, которое усиливалось при мысли о скором отъезде Володыевского. В сердце Кшиси любви еще не было. Она еще не сознавала ее. Зато в сердце ее была потребность любить.
Быть может, она уже была несколько увлечена: Володыевского окружала слава первого рыцаря Речи Посполитой. Все с уважением произносили его имя. Сестра до небес превозносила его благородство; постигшее его несчастье придавало ему особенное обаяние, и, наконец, живя с ним под одной крышей, девушка привыкла к нему.
Кшися любила, чтобы ею увлекались. Когда пан Михал за последние дни стал относиться к ней равнодушно, это задело ее самолюбие. Но, добрая от природы, Кшися решила не выказывать ему своего неудовольствия и нетерпения, а обезоружить его добротой.
И сделать это ей было тем легче, что на следующий день у пана Михала было опечаленное лицо, он не только не избегал взгляда Кшиси, но смотрел ей в глаза и как будто хотел сказать: «Вчера я не обращал на тебя внимания, а сегодня прошу у тебя прощения».
И он глазами говорил ей так много, что под влиянием этих взглядов лицо девушки краснело, а предчувствие, что скоро должно совершиться что-то важное, еще усиливало ее тревогу. Так и случилось. После полудня пани Маковецкая поехала с Басей к ее родственнице, жене Львовского подкомория, которая гостила в Варшаве; Кшися осталась дома, сославшись на головную боль: ее разбирало любопытство поскорее узнать, о чем они будут говорить с паном Михалом, когда останутся наедине.
Пан Заглоба тоже не поехал, но он обыкновенно спал после обеда. Он говорил, что это спасает его от ожирения и дает ему по вечерам хорошее настроение. И потому, поболтав с часок, он ушел в свою комнату. Сердце Кшиси билось все тревожнее. Но какое разочарование ожидало ее! Пан Михал вскочил и ушел вместе с Заглобой.
«Он сейчас же вернется!» – подумала Кшися. И, взяв обруч, она стала золотом вышивать шапку, которую хотела подарить пану Михалу на дорогу.
Глаза ее ежеминутно следили за стрелкой данцигских часов, которые стояли в углу гостиной и строго тикали.
Прошел час, другой, а Володыевского все не было.
Девушка положила обруч на колени и, сложив руки, сказала про себя:
– Он не решается, а пока решится, могут приехать наши, или же проснется пан Заглоба, и мы ничего друг другу не скажем.
Ей казалось в эту минуту, что они должны переговорить о чем-то очень важном и что из-за медлительности пана Володыевского это им не удастся. Наконец, в соседней комнате послышались его шаги.
– Ходит взад и вперед, – подумала Кшися и стала вышивать еще усерднее. Володыевский, действительно, ходил взад и вперед по комнате и не решался войти. Между тем красный диск солнца постепенно склонялся к западу.
– Пан Михал! – позвала вдруг Кшися. Он вошел и застал ее за работой.
– Вы меня звали?
– Я хотела знать, кто это там ходит… Я сижу здесь одна более двух часов… Володыевский подвинул стул и сел на самый краешек.
Прошла минута молчания. Володыевский шаркал ногами, засовывая их под стул, и быстро шевелил усиками. Кшися перестала шить и взглянула на него, взгляды их встретились, и оба они опустили глаза.
Когда Володыевский снова поднял их и взглянул на Кшисю, на лицо ее падали последние лучи заходящего солнца, и она была прекрасна, как никогда. Волосы ее были окружены золотистым ободком…
– Через несколько дней вы уезжаете? – спросила она так тихо, что пан Михал едва мог расслышать.
– Иначе быть не может!
И снова наступила минута молчания, потом Кшися сказала:
– Я думала в последнее время, что вы сердитесь на меня…
– Если бы действительно так было, – воскликнул Володыевский, – я был бы недостоин взглянуть вам в глаза, но не было этого!
– А что же было? – спросила Кшися, снова поднимая на него глаза.
– Я предпочитаю говорить искренне – я думаю, что искренность всегда лучше притворства… Но… я даже сказать не сумею, каким утешением были вы для меня и как я вам благодарен за это…
– Дай Бог, чтобы всегда так было! – ответила Кшися, складывая руки на обруче с работой.
Пан Михал ответил ей с грустью:
– Дал бы Бог! Дал бы Бог! Но мне сказал пан Заглоба (это я вам как на исповеди говорю), что дружба с женщиной вещь опасная, ибо под нею, как огонь под пеплом, может скрываться более горячее чувство. Я подумал, что пан Заглоба может оказаться прав… Простите солдату его простоту… Другой сказал бы все это лучше, а я… сердце у меня обливается кровью, что я так относился к вам за последние дни… Мне просто жизнь не мила…
Сказав это, пан Михал так быстро зашевелил усиками, как не зашевелит ни один жук.
Кшися опустила голову, и минуту спустя две слезы скатились по ее щекам.
– Если вам от этого будет легче, если мое братское чувство вам не нужно, то я постараюсь скрыть его…
И снова слезы покатились по ее щекам. При виде их сердце пана Михала сжалось; он бросился к Кшисе и схватил ее руки. Обруч скатился с ее колен и очутился посередине комнаты, но рыцарь ничего уже не видел и только прижимал к губам ее теплые, мягкие, как атлас, руки и все повторял:
– Не плачьте, ваць-панна! Бога ради не плачьте!
Он не переставал целовать ее рук даже и тогда, когда Кшися в смущении закинула их на голову, – и целовал их все горячее, ибо его как вино опьянил запах ее волос…
И он сам не знал, как и когда его губы коснулись ее лба, потом заплаканных глаз… Все завертелось перед ним. Потом он почувствовал пушок над ее верхней губой, и уста их слились в долгом, горячем поцелуе. В комнате стало тихо и слышалось только мерное тиканье маятника.
Вдруг в сенях раздался топот Баси и послышался ее детский голосок:
– Мороз, мороз, мороз!
Володыевский отскочил от Кшиси, как спугнутая рысь отскакивает от своей жертвы. В ту же минуту в комнату с шумом влетела Бася, все повторяя:
– Мороз, мороз, мороз!
Вдруг она споткнулась об обруч, который валялся на полу, среди комнаты. Она остановилась и, с удивлением поглядывая то на обруч, то на Кшисю, то на маленького рыцаря, сказала:
– Что это? Вы обручем как мячиком перебрасывались?
– А где тетушка? – спросила Дрогоевская, стараясь говорить как можно более естественным и спокойным голосом.
– Тетушка вылезает из саней, – ответила Бася тоже изменившимся голосом.
И ее подвижные ноздри зашевелились. Она еще раз взглянула на Кшисю, потом на пана Володыевского, который в эту минуту поднимал с пола обруч, и вдруг молча вышла из комнаты.
В эту минуту в комнату вкатилась пани Маковецкая, а сверху спустился пан Заглоба, и завязался разговор о жене львовского подкомория.
– Я не знала, что она крестная мать пана Нововейского, – сказала пани Маковецкая. – Он, должно быть, рассказал ей что-нибудь про Басю, потому что она все ее поддразнивала Нововейским.
– А что же Бася? – спросил Заглоба.
– Ну, что Бася – ничего! Она ей так ответила: «У него нет усов, а у меня ума, и еще неизвестно, кто раньше дождется своего».
– Я знал, что она за словом в карман не полезет. Но кто знает, что у нее на уме? Женская хитрость!
– У Баси что на уме, то и на языке. Я уже вам говорила, что она еще воли Божьей не чует, Кшися – другое дело!
– Тетя! – вдруг перебила ее Дрогоевская.
Дальнейший разговор был прерван слугой, который доложил, что ужин подан. Все отправились в столовую. Недоставало только Баси.
– Где панна? – спросила пани Маковецкая, обращаясь к слуге.
– Панна на конюшне. Я говорил панне, что ужин готов, – она ответила: «Хорошо» – и пошла на конюшню.
– Неужели она чем-нибудь огорчилась? Все время она была так весела, – заметила пани Маковецкая, обращаясь к Заглобе.
Тут маленький рыцарь, совесть которого была не чиста, сказал:
– Я побегу за нею!
И он побежал. Он, действительно, нашел ее за дверью конюшни, сидевшей на охапке сена. Она так задумалась, что и не заметила, как он вошел.
– Панна Барбара! – сказал маленький рыцарь, наклоняясь к ней.
Бася вздрогнула, как будто проснувшись от сна, подняла на него свои глаза, и Володыевский, к своему удивлению, заметил в них две крупных, как жемчуг, слезы.
– Ради бога, что с вами? Вы плачете?
– И не думала даже! – воскликнула Бася, вскакивая. – И не думала: это от мороза!
И она рассмеялась весело, но смех ее был искусственный. Потом, чтобы отвлечь от себя его внимание, она указала на стойло, в котором стоял жеребец, подаренный Володыевскому гетманом, и живо сказала:
– Вы говорили, что к этой лошади нельзя подходить?.. Посмотрим!
И прежде чем пан Михал успел удержать ее, она вскочила в стойло. Дикий конь сразу стал приседать на задние ноги, бить копытами землю и насторожил уши.
– Ради бога, ведь он может убить вас! – крикнул Володыевский, бросаясь за нею.
Но Бася хлопала жеребца по спине и повторяла:
– Пусть убьет! Пусть убьет! Пусть убьет!
Конь повернул к ней дымящиеся ноздри и тихо ржал, как будто радуясь ее ласкам.
X
Все прежние бессонные ночи Володыевского были ничто в сравнении с той, которую он провел после объяснения с Кшисей. Он изменил памяти своей дорогой покойницы, которую так чтил; он обманул доверие к нему другой, злоупотребил дружбой, связал себя каким-то обязательством и поступил как человек без совести. Другой солдат на его месте не придал бы никакого значения этим поцелуям и, самое большее, при воспоминании о них покручивал бы усы; но пан Володыевский, особенно после смерти Ануси, относился ко всему строго, как человек, у которого наболела душа. Что ему теперь делать? Как поступить?