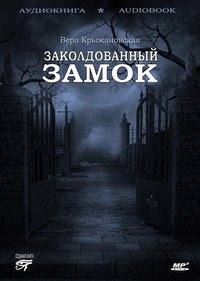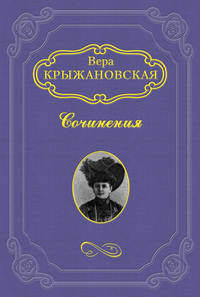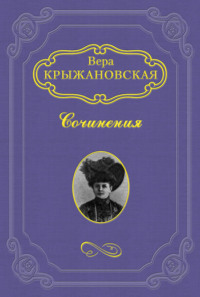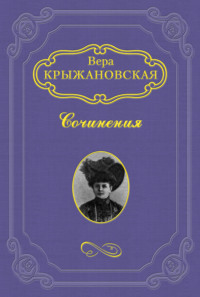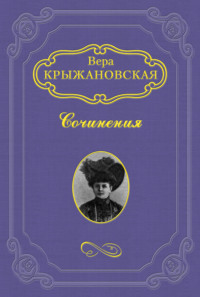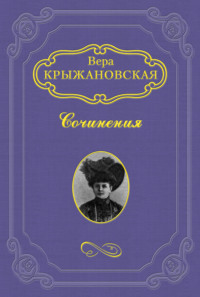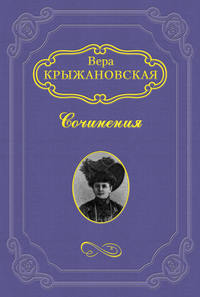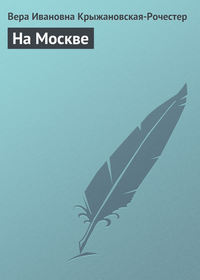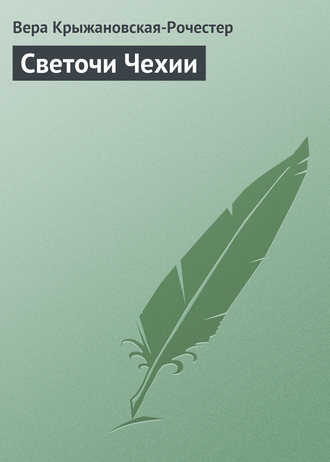 полная версия
полная версияСветочи Чехии
Разгром церкви, по-видимому, уже окончился, так как народ с радостными кликами валил изнутри и смехом, удалым посвистом, гарканьем, да прибаутками ободрял тех, которые тащили священническое облачение и раздирали в клочья дорогую вышитую парчу.
Один из горожан заметил Анну, остановившуюся у паперти.
– Смотри, как мы вымещаем „магометанам” за попрание евангельской истины и за святого костницкого мученика, – крикнул он, – думаешь ты, видит он нас с неба и одобряет?
Анна отрицательно покачала головой.
– Я думаю, что его ангельская душа неспособна к мести. Сам он никогда не проповедовал иного, как любовь и прощение, и, конечно, не похвалит за бесчинства в святом месте. Если уж вы хотите восстановлять справедливость и царство добродетели, мало ли какие у нас есть гнезда разврата, которые только позорят наш город и должны быть уничтожены.
Окружающие на минуту смолкли, а потом тот же горожанин крикнул:
– Ну! Насчет того, будто Ян Гус нас порицает, все это – глупости, болтовня баб, ни черта не смыслящих в важных делах. В Библии же сказано: „око за око, зуб за зуб”, так мы и поступаем по писанию. А вот что ты сказала о погибельных местах, где негодные попы пьянствуют и развратничают, к стыду истинных христиан, так это дело отличное и мы сейчас им займемся. Эй, братцы! За мной в сатанинские берлоги! Уж и ощиплем же мы там райских пташек!
Толпа сочувственно загудела в ответ и отхлынула к новой цели.
Анна прижалась к воротам соседнего дома, чтобы не быть смятой, а затем, воспользовавшись минутой, когда улица опустела, беспрепятственно отправилась на квартиру брата.
На улицах же царил беспорядок, и к ограблению храмов прибавился теперь разгром веселых домов, на которые народ накинулся с такой яростью, что разрушил до основания все их, как в Старом, так и в Новом городе.
Когда наступила ночь, буйство, большею частью, стихло, но расходившиеся страсти не могли сразу успокоиться.
Кто-то указал еще на картезианский монастырь, на Смихове, как на вражеское, немецкое гнездо, которое было необходимо разрушить, – и слово это пало на благодатную почву.
Было около десяти часов вечера, когда несметная масса оцепила аббатство. Ворота мигом были разбиты и нападающие хлынули внутрь.
Братия скрылась в трапезную, где народ издевался над ее мужеством и потешался тем, что стращал монахов, замахиваясь на них и грозя оружием, гикая или осыпая их насмешками. Но, несмотря на возбуждение толпы, ни убитых, ни даже раненых не было и гуситы удовольствовались уничтожением книг, запасов, утвари и монашеского скарба и разгромом погреба, где они разбивали бочки и жбаны и разливали по земле драгоценную влагу.[76]
Этой сдержанностью обязаны были, отчасти, Броде, который, хотя и принимал горячее участие в событии дня и даже распоряжался нападением на картезианцев, но которому претило убивать беззащитных.
Вся ненависть и гнев старого вояки с товарищами обрушились на самый монастырь: когда монахов вытащили из трапезной и, под надежным конвоем, выпроводили в город, тогда только здание подожгли.
И массивные, чудные строения разом запылали со всех концов, как огромный костер, разбрасывая по ветру снопы искр и заливая небо кровавым заревом.
А пока огнем и разрушением заключался этот пролог гуситских войн, – страшной расплаты чехов за вековые угнетения, – тело Вацлава, поспешно набальзамированное, скрытно было перевезено из Венцельштейна в Вышеград. При той смуте, которая волновала город, пышные королевские похороны, конечно, не могли состояться, и вот в Збраславском монастыре схоронили потихоньку того самого короля, колыбель которого окружало столько надежд, славы и величия и который, после 56-летнего царствования, умер несчастным и покинутым.
Негодующая Чехия готовилась восстать под предводительством своего гениального, непобедимого вождя Жижки и удивить впервые мир величайшим зрелищем вооруженного народа, ополчившегося за веру и свободу…
Этой войне, одной из ужаснейших, которые когда-либо заливали кровью землю, суждено было принять имя кроткого, смиренного костницкого мученика, и, с одного конца его родины до другого, церкви и монастыри запылали в искупление его костра…
Эпилог
Спустилась роскошная июльская ночь, теплая и благоуханная. На темной лазури неба мерцали лучистые звезды, и луна заливала землю своим мягким, дремотным светом.
Широкой лентой, вся усыпанная серебристыми блестками змеилась река, а по обоим ее берегам раскинулся большой город, со стройными громадами церквей, колоколен и башен, поражающий причудливостью своей архитектуры. Среди красивых современных зданий выглядывают древние сооружение с почерневшими от времени стенами, – величавые, облеченные тайной и преданиями свидетели былого, памятники славного или кровавого прошлого, исполненные, словом, того мистического очарования, которое только протекшие века способны налагать на хрупкие творения людские.
Город этот – чешская Прага, красавица, Золотая-Прага. Она выросла и развилась за столетие, минувшие с тех пор, как в ней жили и боролись за родину и веру Гус и Иероним; но душа ее не изменилась. Как и в дни былые, здесь бьется сердце, здесь работает мозг, здесь кипит гений старой чешской земли. Но в эту дивную, летнюю ночь в ней творится нечто необычайное.
На окружающих высотах горят огни; несмотря на поздний час, в городе гудит жизнь и даже в воздухе, чистом и прозрачном, невидимо для человеческого глаза, происходит что-то таинственное.
Над землей плавно летит странное существо с неясными, туманными очертаниями. Живой представляется одна голова с большими, строгими, глубокими и бесстрастными глазами; голова старца – по морщинам и горькому разочарованию, которое выражает рот, с тонкими, плотно сжатыми губами; голова молодого человека – по веющей от нее энергии, могучей жизненности и сознанию своей мощи. Серебристые, белые волосы на голове и бороде теряются в складках одеяние, которое, как дымка, окутывает его, тянется далеко позади громадной пеленой, опоясывает горизонт и уходит в бесконечность.
Медленно плывя по воздуху, видение достигло берега реки и остановилось. Перед ним была часть полуобвалившейся стены, – едва заметный остаток некогда высившегося здесь сооружения.
На развалинах сидела прекрасная и величественная женщина, с темными волосами и большими глазами, сиявшими умом и могучей волей.
На ней была белоснежная одежда; золотой обруч придерживал на голове прозрачное, обволакивавшее ее покрывало.
– Привет тебе, о Время! – сказала она, поднимая глаза на старца, – Давно уж я не видела твоего лица, а чувствовала только, как ты проносишься мимо.
– Я снова нахожу тебя на твоем посту, бедная Любуша! – ответил тот. – Когда ж, наконец, уйдешь ты на покой?
– Как уйти на покой, когда мой дорогой народ еще страдает и борется, а лютый, исконный враг, более дерзкий и жадный, чем когда-либо, замышляет его уничтожить и раздирает его тело своими когтями.
– А ты все плачешь и отчаиваешься?
Голова Любуши горделиво выпрямилась.
– О нет, напротив! Я молюсь и надеюсь, потому что народ мой мудр и силен, терпелив и настойчив и не забывает своей былой славы.
Она подняла свою прозрачную руку и указала на огни, пылавшие на холмах.
– Видишь эти костры? Их зажгли чехи, верные памяти Яна Гуса и Иеронима, в честь их ужасной смерти. Сегодня, 6 июля, годовщина постыдного приговора над великим констанцским мучеником; любовь и почитание миллионов сердец влекут сюда доблестные души Гуса и его друга. Смотри! Видишь эти снопы вылетающих из костров искр, которые ветер разносит во все стороны. Это – оживший пепел обоих бойцов-героев! Пропитанные их мыслью, искры летят и падают живой росой на сердца народа и зажигают в нем неугасимую любовь к родине и мужество, делающее его непобедимым.
Издали донесся глухой шум, который все рос и превращался в смутный гул идущей толпы; затем замелькали торопливые, бесчисленные тени.
Приближалось несомненно войско. Тяжелым, мерным шагом подходило оно все ближе и ближе, и теперь ясно слышалось бряцание оружие, лязг цепей, скрип колес и лошадиное ржание. Во главе был старик высокого роста со знаменем, на котором лучезарно сияла золотая чаша.
За ним шли воины, вооруженные копьями и рогатинами, цепами и палицами, топорами, мечами и самострелами; большинство было в крестьянской сермяге, но суровые лица дышали такой уверенностью в могуществе своей несокрушимой силы, таким презрением к смерти и горячей верой в свое святое дело, что всякое препятствие должно было пасть перед ними.
Как стихийная сила, которой уж ничто не остановит, медленно, но неудержимо стремилась людская лавина, а следом за ней громыхали тяжелые, окованные железом и снабженные цепями повозки, – грозные, подвижные укрепления гуситских полчищ.
– Что ж эти воины, что выходят из складок моей мантии, где покоится прошлое всех народов, – спросило Время.
– Неустрашимые бойцы Жижки, которых он вел от победы к победе и которые заставляли дрожать заклятых врагов своих, – с гордостью ответила Любуша. – В эту священную ночь оживает старая чешская земля, пропитанная кровью и усеянная костями этих богатырей, павших за отчизну и чашу. Слышишь? Они поют свою боевую песнь.
Завет не забывайте:Вождям своим внимайте,Друг друга выручайте,Своих дружин держись!– Куда ж они идут?
– На гору Бланик, около Табора. Там спит Жижка со своими военачальниками, ожидая, пока глас народа не позовет его на решительный бой за судьбы его родины. Они идут будить его: „Пришла пора! Вставай, Жижка! Гуситство не сказало еще своего последнего слова!”…
Любуша умолкла, провожая глазами уходившие воинственные тени и вслушиваясь.
Издали доносились слова:
Оружье в руки берите,«Бог нам владыка!» – кричите.Бейте врага, не щадите,Уничтожайте все![77]Затем образ ее стал бледнеть и, наконец, растаял в воздухе, как легкий туман, развеянный ветром…
* * *Примечания
1
Магистр.
2
Tomek. Dejepis mesta Prahy, Ш, стр. 140–145.
3
Tomek. Dejepis mesta Prahy, стр. 175.
4
Ernest Denis. Huss et la guerre des hussites, стр. 13.
5
Tomek. Dejepis mesta Prahy.
6
Известный чешский патриот времен короля Яна Люксембургского (XIV в.), написавший историю Чехии рифмованными стихами.
7
Надлер. Причины и первые проявления оппозиции католицизму в Чехии и Западной Европе, 123.
8
Там же, стр. 120.
9
Случай в Бреславле в 1381 г. – Grunhagen. «Konig Wenzel und der Pfaffenkrieg in Breslau».
10
Sebrane spisy.II, 305, III, 147.
11
Там же.
12
Stransky. «Respublica Bojema», сар. VI, 6.
13
Pelzel. Urkundenbuch zum erstentheile „Leben Kaisers Karl IV, Письмо Карла IV, удостоверяющее, что в стране много еретиков, не желающих слушать писание на латинском языке.
14
Pelzel. „Leben Kaisers Karl IV, часть 1, стр. 180.
15
Пальмов, «Вопрос о чаше гуситском движении».
16
Ernest Denis, стр. 60.
17
Palacky. «Geschichte von Bohmen». т. III, стр. 144.
18
Palacky. «G. v. B.», стр. 149.
19
Томек. «Ян Жижка».
20
Palacky. «G. V. В.» ч. III, стр. 153.
21
Надлер, стр. 249.
22
Томек. «Ян Жижка».
23
Palacky. «G. v. B.», III, стр. 111.
24
Palacky. «G. v. B.», III, стр. 230.
25
Heifert. «Hus und Hieronimus», 103.
26
Monument. Univers. Prag.
27
Ernest Denis, стр. 62.
28
Ernest Denis, стр. 64.
29
Гл. IV. Ст. 1 и 2.
30
Palacky. «G. v. B.», III, стр. 237.
31
Ernest Denis, стр. 67, прим. 1.
32
Надлер, стр. 252.
33
Ernest Denis, стр. 54.
34
Palacky. G. v. В., стр. 121 и 125.
35
Новиков. Гус и Лютер, стр. 39.
36
Helfert, стр. 33.
37
Palacky. G. v. В., стр. 287.
38
Томек, «История пражского университета», т. I, стр. 149.
39
Helfert, стр. 33.
40
Held, «Tent. histor.», стр. 26 и сл.
41
E. de Bonnechose, „Johann Huss und das Concil zu Costnitz", стр. 145.
42
„Für viele der Herrn und Leuten des Hofes war der ganze Streit nichts als ein köstlicher Spass, eine ergötliche Hetze, und vor allem erschien Herr Wok von Waldstein munter und voll launiger Einfälle, wenn es der Geistlichkeit etwas anzuhängen gab. Wo Pfarrherren zu verdrän gen, Pfarrhöfe zu stürmen waren, wenn der Konig dazu in seiner Aufwaljung Erlaubnis gegeben oder es doch ungehindert geschehen liesz, da that es Herrn Wok kein anderer gleich». (Helfert, стр. 136).
43
Pelzel. „Lebensgeschiehte des römischen und böhmischen Königs Wenceslaus".
44
Berger. „Huss und König Sigismund'', стр. 63.
45
Рalacky. „G. v. В.", III, стр. 235, прим. 310.
46
Palacky. „G. v. В." и Berger, стр. 61, прим. I.
47
Palacky, „G. v. В.". стр. 253.
48
Pelzel, стр. 570.
49
Pelzel, стр. 571.
50
Bonnechose, стр. 52.
51
Bonnechorse, стр. 52.
52
Не прелаты, а пилаты.
53
Einer der königlichen Günstlinge, Herr Woksa von Waldstein, veranstaltete im Einverständnisz mit M. Hieronymus von Prag und anderen gleichgesinnten Magistern, einen satyrischen Aufzug, als Parodie der vor zwei Jahren geschehenen Bücherverbrennung u. s. w. (Palazky, „G. v. B". III, 277, 278).
54
Pelzel, 622.
55
Palacky, III, 279.
56
KohJer, «Johannes Hus der Reformator des XV Jahrhunderts»
57
Самый ревностный гонитель Гуса, бывший священник пражской церкви св. Адальберта, Михаил из Немецкого брода, назначенный папой в прокураторы веры (procurator de causis iidei), отчего и известен под более употребительным, сокращенным названием – Михаила de Causis'a. (Бильбасов, «Чех Ян Гус из Гусинца»)
58
Рассказ Петра Младеновича. Palacky, Docum. 246.
59
Раlacky, “G. v. В.”, III, стр. 287, прим. 387.
60
Tomek, D. Р. III, стр. 320.
61
Idco ad caput. ecclesiae Dominum Jesum Christuni ultimo appelavi.
62
Небольшое местечко (Kosi hradec), на котором позже возник знаменитый Табор.
63
G. Köhler, «Die Entwickelung des Kriegswesens und der Kriegführuni n der Ritterzeit», B. II, 704.
64
Любимая древняя песня, сочиненная, по преданию, св. Войтехом и распевавшаяся воинами перед битвой.
65
Соловьев. «История России с древнейших времен», т. IV, стр. 1044.
66
Коялович. „Грюнвальденская битва", стр. 9.
67
Prosi krsta od Svatopluka Moravskeho,A od Methodye arcibiskupa Velehradského.Ten arcibiskup Russin béše,Mšu svou slovansky služeše.Эта историческая неточность, – будто просветитель Чехии был родом русский, заключает однако, по словам Гильфердинга („Гус и его отношение к православной церкви", стр. 26), очень важные исторические данные: „записанное в Далимиловой хронике указание является неопровержимым свидетельством существования в конце XIII или в начале XIV в. между чехами убеждения, что вера, исповедуемая русскими, – та вера, при которой обедню служат на славянском языке, – есть их первоначальная вера"
68
Dlugoszi. «Hist. Polon.» X, стр. 1.
69
Собор делился на четыре народности: итатьянскую, французскую, немецкую и английскую.
70
Bonnechose, стр, 142, 143.
71
S'il ne s'agissait pas d'une affaire très sèrieuse, ne dirait-on pas qu'e l’empereur se moquait des cardinaux et qu'en mème temps il insultait à la misère de Jean Huss – сказал французский историк Констанцского собора.
72
Т. е. причащение под обоими видами (телом и кровью), последователи которого получили отсюда названия „подобоев” или “утраквистов” (sub utraque).
73
Табор (Tabor) – по-чешски палатка, но впоследствии с этим именем соединялось представление о библейской горе Табор (Thabor).
74
Более известный под именем Николая Гуса.
75
Прозвище, данное католическому духовенству.
76
Palacky. „Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges”, I. (Письмо к настоятелю картезианского монастыря в Нюренберге).
77
Песня Жижки: «Kdož jste Воži bojovnici».