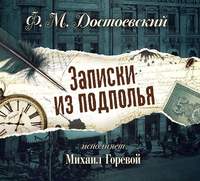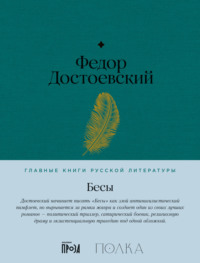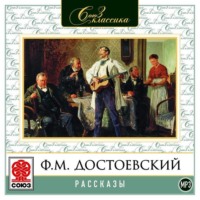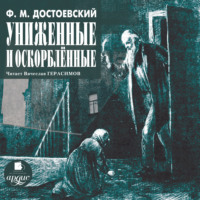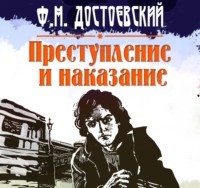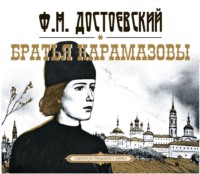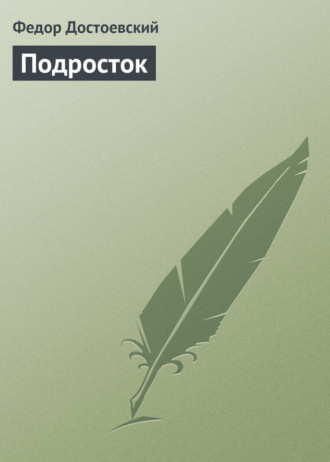
Полная версия
Подросток
Разумеется, эту страсть, как и всякую другую, он доводил до безмерности, до порока. Медлительность, осторожность, колебания были чужды этому гигантскому темпераменту: «Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил». И этот переход границ, составлявший величие художника, был опасностью для человека: его не останавливают преграды буржуазной морали, и никто не может в точности сказать, в какой мере жизнь его переступила грани закона, в какой мере преступные инстинкты его героев осуществились в нем самом. Кое-что доказано, – вероятно, самое незначительное. Ребенком он жульничал в картах, и, как его трагический шут Мармеладов в «Преступлении и наказании» украл у жены чулки, чтобы пропить их, так Достоевский крадет у жены деньги и платья для игры в рулетку. Биографы не решаются определить, насколько чувственное распутство его «подполья» близко к извращенности, в какой мере гнездились в нем сексуальные извращения «сладострастных насекомых» Свидригайлова, Ставрогина и Федора Карамазова. Во всяком случае, даже его извращения гнездятся в таинственной жажде контраста между невинностью и пороком; но не стоит обсуждать (как ни показательны они) эти легенды и догадки. Важно лишь то, что антипод Спасителя, святого, Алеши в Достоевском-Карамазове – сластолюбивый, чувственный, грязный Федор Павлович – связан с ним кровным родством.
Можно решительно утверждать лишь одно: что Достоевский и в чувственности превышал буржуазные мерки, – и, конечно, не в том смягченном смысле, в каком понимал это Гете, сказавший некогда в своем известном изречении, что он живо ощущает в себе склонность ко всем преступлениям и мерзостям. Ибо все мощное развитие Гете является сплошным могучим усилием вытравить в себе эти опасные зародыши. Олимпиец стремится к гармонии, его высшее стремление – преодолеть все противоречия, охладить кровь, привести силы в состояние спокойного равновесия. Он убивает в себе чувственность ради нравственности; не останавливаясь перед обескровливанием своего искусства, постепенно он искореняет все опасные зародыши, – правда, лишаясь вместе с низкими помыслами немалой части своих сил. Но Достоевский, столь же страстный в своем дуализме, как и во всем, что уделила ему жизнь, не стремится к гармонии: она обозначает для него застывание; он не соединяет свои противоречия в божественно-гармоничное целое, а растягивает их от Бога до дьявола и между ними располагает мир. Он хочет бесконечной жизни. И жизнь для него – лишь электрический разряд между полюсами контраста. Все заложенные в нем семена должны взойти; добро и зло, опасность и ее преодоление – все расцветает и созревает под его тропической страстностью. Он позволяет размножаться сорной траве пороков, безудержно гонит в жизнь все свои, даже преступные, инстинкты. Он любит свои пороки, свою болезнь, игру, свою злобу и даже сладострастие, потому что оно является метафизикой плоти, – это желание бесконечного наслаждения. Гете стремится к антично-аполлинийскому, Достоевский к дионисийскому идеалу. Он желает быть не богоподобным олимпийцем, а всего лишь – сильным человеком. Его мораль направлена не к классицизму, не к норме, а только к интенсивности. Жить правильно значит для него жить мощно и пережить все – хорошее и дурное, притом – то и другое в самых сильных, в самых пьянящих проявлениях. Поэтому Достоевский всегда искал не нормы, а только полноты. Рядом с ним Толстой встревоженно останавливается среди своей работы, бросает искусство и всю жизнь решает мучительный вопрос – что хорошо, что плохо, правильно ли он живет или неправильно. Потому жизнь Толстого дидактична, она – учебник, памфлет; жизнь Достоевского – художественное произведение, трагедия, судьба. Он не действует целесообразно, сознательно, он не экзаменует, а только укрепляет себя. Толстой громогласно, всенародно кается во всех смертных грехах. Достоевский молчит, но его молчание говорит о Содоме больше, чем все исповеди Толстого. Достоевский не осуждает себя, не хочет измениться, не хочет исправиться, он хочет лишь одного: укрепиться. Он не сопротивляется дурному, опасному началу своей природы; напротив, он любит свои опасности как стимул, он поклоняется своему греху ради раскаяния, своей гордости ради смирения. Наивно было бы умалчивать о демоническом начале его существа (столь сродном Божественному началу), «оправдывать» его с точки зрения морали и спасать для мелкой гармонии буржуазных мерок то, что обладает стихийной красотой неизмеримости.
Кто создал Федора Карамазова, образы студента в «Подростке», Ставрогина в «Бесах», Свидригайлова в «Преступлении и наказании», этих фанатиков плоти, этих одержимых сладострастием, этих мастеров распутства, тот сам должен был пережить самые низкие формы чувственности, ибо необходимо духовно любить разврат, чтобы дать этим образам их жестокую реальность. Его ни с чем не сравнимая возбудимость знала эротику в двояком ее проявлении: знала ее в плотском опьянении, упоенно купающуюся в грязи, знала до тончайших духовных извращений, когда она цепенеет в ярости и преступлении, знала ее под всеми масками, и мудрым взором он улыбается ее безумству; но он знает ее также и в благородных формах, когда любовь становится бесплотной, – в сострадании, блаженной жалости, в мировом братстве и в безудержных слезах. В нем были все эти таинственные эссенции и не в мимолетных химических соединениях, которые бывают у каждого истинного поэта, а в самых чистых, в самых сильных экстрактах. Каждое извращение описано у него с сексуальным подъемом и ощутимой вибрацией чувств, и многое, конечно, он сладострастно пережил. Этим я не хочу сказать (глубоко ошибочно было бы такое толкование), что Достоевский был развратником, одним из тех, кого радовала плоть сама по себе, – бонвиваном. Он лишь жаждал наслаждений, как жаждал и страданий, раб властного, инстинктивного духовного и плотского любопытства, которое кнутом гнало его к опасностям, в колючую чащу извращенных путей. И самое наслаждение его – не банальная услада, а игра и ставка всей чувственной жизненной силы, вечно повторяющееся стремление к ощущению таинственной грозовой духоты эпилепсии, концентрация чувств в несколько напряженных секунд грозного предчувствия – и потом глухое падение в бездну раскаянья. Он любит в наслаждении лишь мерцанье опасности, игру нервов, проявление стихии в своей плоти; во всяком наслаждении он видит своеобразное смешенье сознательности и глухого стыда и находит в нем его противоположность – осадок раскаяния; в посрамлении он ищет невинность, в преступлении – только опасность. Чувственность Достоевского – лабиринт, в котором спутаны все пути; Бог и зверь уживаются рядом в одном теле, и в символе Карамазовых знаменательно, что Алеша, этот ангел, святой, является сыном Федора, жестокого «сладострастника». Сладострастие рождает чистоту, преступление – величие, наслаждение – страдание и страдание – снова наслаждение. Вечно соприкасаются контрасты; между небом и адом, Богом и дьяволом расстилается его мир.
Безграничная, беззаветная, добровольно безоружная покорность своей двойственной судьбе, amor fati – последняя и единственная тайна, пламенный творческий источник его экстаза. Именно за то, что так много ему было уделено жизнью, за то, что она раскрыла ему безграничность чувства в страдании, он любил эту жестоко-милостивую, божественно-непонятную, вечно мистическую жизнь. Ибо его мера – полнота, беспредельность. Никогда он не стремился к более спокойному прибою жизненных волн, он хотел лишь еще больше сконцентрировать его в самом себе, сделать более интенсивным, и потому никогда не уклонялся от внутренних и внешних опасностей: они дают неограниченную возможность чувствования, воспламенения нервов. Все, что было в нем заложено – семя добра и зла, каждую страсть, каждый порок, – он возрастил вдохновением и экстазом, ни одной опасности он не вытравил из своей мудрой крови. Безудержный игрок делает себя ставкой в страстной игре судеб, ибо только во вращении красной и черной, жизни и смерти, упоенно переживает он сладострастие своего бытия. «Ты меня привела, ты меня и выведешь», вместе с Гете отвечает он природе. «Corriger la fortune», исправлять судьбу, обходить, смягчать ее, – ему и в голову не приходит. Он никогда не ищет совершенства, законченности, успокоения в тишине, а только интенсивности жизни в страданье; все больше он взвинчивает свое чувство новыми напряжениями, ибо не себя он хочет спасти, а высшую сумму ощущений. Он не хочет, как Гете, затвердеть подобно кристаллу, холодно отражая в сотне плоскостей смятенный хаос; он хочет остаться пламенем, разрушающим себя, непрерывно самоуничтожающимся, чтобы непрерывно вновь создавать себя, вечно повторяясь, но каждый раз с повышенной силой и в более напряженных контрастах. Он не хочет властвовать жизнью, он хочет ее ощущать. Быть не господином, а фанатическим рабом своей судьбы. И только став «рабом Божиим», отдаваясь до конца, он смог стать самым мудрым в области всего человеческого.
Достоевский вернул судьбе власть над своей судьбой. Потому его жизнь приобретает могущество над случайной эпохой. Это демонический человек, подчиненный вечным силам, и в его образе еще раз встает в документальном освещении нашей эпохи, казалось, ушедший в прошлое поэт мистических времен, пророк, великий в своем исступлении человек судьбы. Есть в этом гигантском образе первобытность и героизм. Если иные литературные произведения подымаются как усеянные цветами горы из долины времен – былые свидетели созидающей первобытной силы, но уже умиротворенные временем и доступные до самых высей, где белоснежными венцами они упираются в бесконечность, то вершина его творения кажется фантастической и серой, – бесплодная застывшая лава. Но в кратере его истерзанной груди достаточно жара, чтобы расплавить глубочайшее пламенное зерно нашего мира: здесь крепка еще связь с началом всех начал, с истоком первобытной силы, и, содрогаясь, мы ощущаем в его судьбе и в его творчестве всю таинственную глубину человеческой души.
Герои Достоевского
Вулканичен он сам, вулканичны и его герои, – ибо только в самые критические минуты свидетельствует человек о Боге, создавшем его. Они не размещаются спокойно в нашем мире, всегда они спускаются в своих ощущениях в глуби извечных проблем. Современный человек, человек нервов, сочетается в них с первобытным существом, которое знает в жизни только свои страсти, и, делая последние признания, они в то же время косноязычно произносят изначальные вопросы мира. Их формы еще не остыли, их сланцы не окаменели, их лица не сглажены. Вечно несовершенные, они вдвойне жизненны. Ибо совершенный человек в то же время и законченный, у Достоевского же все уходит в бесконечность. Люди лишь до тех пор представляются ему героями, достойными художественного изображения, пока они пребывают в разладе с собой, пока они являются проблемой: совершенных, зрелых он сбрасывает с себя, как дерево плод. Достоевский любит свои образы только до тех пор, пока они страдают, пока они обладают повышенной, двойственной формой его собственной жизни, пока они представляют собой хаос, стремящийся превратиться в рок.
Попытаемся поставить его героев в другие рамки, чтобы лучше понять их изумительное своеобразие. Сравним. Если восстановим в памяти любого героя Бальзака, как тип французского романа, невольно создается впечатление прямолинейности, ограниченности и внутренней законченности. Понятие отчетливое и закономерное, как геометрическая фигура. Все бальзаковские образы сделаны из одного вещества, которое может быть в точности установлено психической химией. Они являются элементами и обладают всеми присущими элементам качествами; следовательно, им свойственны и типичные формы моральной и психической реакции. Они уже почти не люди, скорее очеловеченные свойства, – точные приборы какой-нибудь страсти. Имя у Бальзака можно заменить названием свойства: Растиньяк равен честолюбию, Горио – самопожертвованию, Вотрен – анархии. В каждом из этих людей доминирующий импульс подчинил себе все остальные внутренние силы и направил их в основное русло жизненной воли. Все они, эти герои, поддаются характерологической классификации, ибо их душа вмещает лишь одну пружину, с большей или меньшей энергией движущую их в человеческом обществе; словно пушечное ядро, врезается каждый из этих молодых людей в гущу жизни. В известном смысле хочется назвать их автоматами: с такой точностью они реагируют на каждое жизненное раздражение, что сила действия и сопротивления этих механизмов может быть точно рассчитана специалистом-техником. Если хоть сколько-нибудь вчитаться в Бальзака, то реакцию характера на любое событие можно рассчитать так же, как параболу полета камня, зная силу размаха и его тяжесть. Скупость Гранде-Гарпагона будет возрастать в прямом отношении к самоотверженности его дочери. И когда Горио еще имеет приличное состояние, и его парик тщательно напудрен, уже знаешь, что когда-нибудь ради дочерей он пожертвует своим жилетом и продаст на лом свое последнее достояние – серебряный сервиз. С необходимостью он должен действовать именно так – в силу единства своего характера, в силу импульса, которому его плоть лишь до известной степени сообщает человеческий облик. Характеры Бальзака (также Виктора Гюго, Скотта, Диккенса) все примитивны, одноцветны, целеустремленны. Они – единства, и потому могут быть взвешены на весах морали. Многоцветен и тысячелик в этом духовном космосе лишь случай, с которым они сталкиваются. У этих эпических писателей события многообразны, а человек является единством, и роман повествует о борьбе за обретение силы против земных сил. Герои Бальзака, как и французского романа вообще, или сильнее, или слабее противостоящего им общества. Они овладевают жизнью или гибнут под ее колесами.
Герой немецкого романа, типом которого можно считать хотя бы Вильгельма Мейстера или Зеленого Генриха, не так уверен в своем доминирующем импульсе. В нем сочетаются разные голоса, он психологически дифференцирован, духовно полифоничен. Добро и зло, сила и слабость беспорядочно протекают в его душе: его исток – смятение; утренний туман заволакивает его взор. Он ощущает в себе силы, но они еще не сосредоточены, еще борются в нем; он не гармоничен, он только одушевлен волей к единству. Немецкий гений в конечном счете всегда стремится к порядку. И все «романы развития» развивают в немецких героях не что иное, как личность. Силы концентрируются, человек вознесен к немецкому идеалу сильной личности, «в мировом потоке, – по слову Гете, – создается характер». Перемешанные жизнью элементы кристаллизуются в обретенном покое, для мастера прошли годы обучения, и с последней страницы всех этих книг – «Зеленого Генриха»,[6] «Гипериона»,[7] «Вильгельма Мейстера», «Офтердингена»[8] – ясный взор уверенно смотрит в ясный мир. Жизнь примиряется с идеалом; накопленные силы уже не расточаются: упорядоченные, они направлены к достижению высшей цели. Герои Гете, так же как герои всех немецких писателей, развиваются в высшие формы: они приобретают действенность и в опыте изучают жизнь.
Герои Достоевского не ищут и не находят связи с действительной жизнью: в этом их особенность. Они вовсе не стремятся к реальности, а сразу же выходят за ее границы, в беспредельность. Их судьба сосредоточена для них не вовне, а внутри. Их царство не от мира сего. Все мнимые виды ценностей – положение в обществе, власть и деньги – все материальные блага в их глазах не имеют цены – ни как цель у Бальзака, ни как средство у немцев. Они вовсе не стремятся пробиться в этом мире, так же как не хотят властвовать или подчиняться. Они не сберегают, а расточают себя, не исчисляют и остаются вечно неисчислимыми. Благодаря бездеятельности натуры на первый взгляд они кажутся праздными мечтателями и фантазерами, но их взор только кажется пустым, ибо он обращен не на внешнее, а жгуче и пламенно устремлен в себя, на собственное существо. Русский человек охватывает все в целом. Он хочет ощущать себя и жизнь, а не ее тень и отражение, не внешнюю реальность, а великие мистические основы, космическую мощь, чувство бытия. Вникая глубже в произведения Достоевского, всюду слышишь, будто журчанье глубинного источника, эту примитивную, почти растительную, фанатическую жажду жизни, чувство бытия, это первобытное стремление, требующее не счастья или страданья, которые уже являются качественно определенными жизненными формами – оценкой, различением, – а равномерного, единообразного наслаждения, подобного тому, которое испытываешь при дыхании. Они хотят пить вечность из первоисточника, а не из городских колодцев, хотят ощущать в себе беспредельность, избыть все временное. Они знают лишь вечный, а не социальный мир. Они не хотят изучать жизнь, не хотят ее побеждать, они хотят ощущать ее как бы обнаженной и ощущать как экстаз бытия.
Чуждые миру в силу любви к миру, нереальные в силу страсти к реальному, герои Достоевского сперва кажутся несколько наивными. У них нет определенного направления, нет видимой цели: точно слепые или пьяные, шатаясь бродят по миру эти, все же взрослые люди. Они останавливаются, оглядываются, задают вопросы и бегут, не дождавшись ответа, дальше, в неизвестность. Кажется, что они только сейчас вступили в наш мир и не успели с ним освоиться. И люди Достоевского останутся непонятными, если не вспомнить, что они русские, дети народа, который из вековой, варварской тьмы свалился в гущу нашей европейской культуры. Оторванные от старой, патриархальной культуры, еще не освоившиеся с новой, стоят они на распутье, и неуверенность каждого из них – это неуверенность целого народа. Мы, европейцы, живем в наших старых традициях, как в теплом доме. Русский девятнадцатого столетия, эпохи Достоевского, сжег за собой деревянную избу варварской старины, но еще не построил нового дома. Все они вырваны с корнем и потеряли направление. Они обладают силой молодости, в их кулаках сила варваров, но инстинкт теряется в многообразии проблем, они не знают, за что им раньше взяться своими крепкими руками. Они берутся за все и никогда не бывают удовлетворены. Трагизм каждого героя Достоевского, каждый разлад и каждый тупик вытекает из судьбы всего народа. Россия в середине девятнадцатого столетия не знает, куда направить свои стопы: на запад или на восток, в Европу или в Азию, в Петербург, в «самый умышленный город на всем земном шаре», в культуру, или обратно, к крестьянскому хозяйству, в степь. Тургенев толкает ее вперед, Толстой назад. все в волнении. Царизм накануне анархии, православие, наследие древних времен, готово перескочить в самый неистовый атеизм. Ни в чем нет прочности, ничто не имеет своей цены, своего измерения в эту эпоху: сияние веры не озаряет чело, и закон давно угас в груди. Оторванные от великой традиции, герои Достоевского – настоящие русские, люди переходной эпохи, с хаосом начинаний в душе, отягощенные сомнениями и неуверенностью. Всегда они запуганы и забиты, всегда они чувствуют себя униженными и оскорбленными, – и все это единственно благодаря общему переживанию народа; они не знают, много ли, мало ли они стоят. Вечно они находятся на грани гордости и уничижения, самомнения и самопрезрения, вечно они оглядываются на других, и всех их гложет безумный страх перед возможностью быть смешными. Они беспрерывно стыдятся – то поношенного мехового воротника, то всего народа, – но вечно стыдятся, стыдятся; вечно они беспокойны, смущены. Их чувство, могучее чувство, не знает удержу, лишено руководства; никто из них не знает меры, закона, поддержки традиций, опоры унаследованного мировоззрения. Все они беспочвенны, беспомощны в незнакомом им мире. Все вопросы остаются без ответа, ни одна дорога не проложена. Все они люди переходной эпохи, нового начала мира. Каждый из них Кортец: позади – сожженные мосты, впереди – неизвестность.
Но вот что примечательно: так как они люди нового начала мира, в каждом из них снова рождается мир; все вопросы, уже застывшие у нас в холодных понятиях, еще кипят у них в крови; им неведомы наши удобные, протоптанные дороги с их моральными перилами и вехами, – всегда и везде они пробираются через чащу в безграничность, в беспредельность. Нигде нет башен достоверности, мостов доверия; всюду девственно-первобытный мир. Каждый в отдельности чувствует, что он, так же как в России Ленина и Троцкого, должен быть строителем нового мирового порядка, и неописуемое значение русского человека для Европы, оцепеневшей в оболочке своей культуры, в том, что тут неистощенная любознательность еще раз ставит вечности все вопросы жизни: там, где мы застыли в нашей цивилизации, другие еще охвачены пламенем. В творчестве Достоевского каждый герой наново решает все проблемы, сам окровавленными руками ставит межевые столбы добра и зла, каждый сам претворяет свой хаос в мир. Каждый герой у него слуга, глашатай нового Христа, мученик и провозвестник третьего царства. В них бродит еще изначальный хаос, но брезжит и заря первого дня, давшего свет земле, и предчувствие шестого дня, в который будет сотворен новый человек. Его герои прокладывают пути нового мира; роман Достоевского – миф о новом человеке и его рождении из лона русской души.
Но миф, и к тому же национальный миф, требует веры. И потому бесцельно пытаться постигнуть этих людей при посредстве кристального разума. Только чувство, братское чувство, может его понять. Common sense, здравому смыслу англичанина, американца, практического человека четверо Карамазовых должны казаться четырьмя видами дураков, весь трагический мир Достоевского – сумасшедшим домом. Ибо то, что было и всегда будет альфой и омегой для здоровой, простой, земной натуры, – стремление к счастью – представляется им самой безразличной вещью в мире. Раскройте любую из 50 тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чем они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа, или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы с веселой толпой детей, у Бальзака – замок с титулом пэра и миллионами. И если мы оглянемся вокруг, на улице, в лавках, в низких комнатах и в светлых залах – чего хотят там люди? Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? Никто. Ни один. Они нигде не хотят остановиться – даже в счастье. Они всегда стремятся дальше, все они обладают «горячим сердцем», которое приносит им мучения. К счастью они равнодушны, равнодушны и к довольству, богатство они скорее презирают, чем желают его. Они ничего не хотят, эти чудаки, из того, к чему стремится все наше человечество. У них uncommon sense.[9] Они ничего не требуют от этого мира.
Итак, они довольствуются малым? Стало быть, флегматики, аскеты, индифферентные люди? Напротив! Люди Достоевского, как я уже говорил, люди нового начала мира. При всей их гениальности, при всем кристальном разуме, у них детские сердца, детские желания: они не хотят ни того, ни другого, – они хотят всего. И очень сильно хотят. Добра и зла, горячего и холодного, близкого и далекого. Они преувеличивают, не знают меры. Я сказал: они ничего не требуют от этого мира. Плохо сказано. Они не требуют от него ничего единичного, они требуют всего – всю полноту чувства, всю глубину мира – единую жизнь. Не надо забывать, что они не слабые люди, не Ловеласы, не Гамлеты, не Вертеры, не Рене, – у них крепкие мускулы и грубый голод жизни, у людей Достоевского; они – Карамазовы, «сладострастники», одаренные «исступленной и неприличной» жаждой жизни, присасывающейся к последней капле чаши, прежде чем ее разбить. Во всем они ищут превосходную степень, повсюду – раскаленных докрасна переживаний, в которых испаряется дешевая лигатура случайного и не остается ничего, кроме расплавленного, жгучего мирового чувства; как одержимые амоком, они бегут в жизнь, от похоти к раскаянию, от раскаяния к злодеянию, от преступления к признанию, от признания к экстазу – по всем путям своего рока, повсюду до крайних пределов, пока не падают с пеной у рта, или пока их не опрокинут другие. О, эта жажда жизни! Целая юная нация, новое человечество жаждет их устами – жаждет мира, мудрости, истины! Найдите, покажите в произведениях Достоевского хоть одного человека, живущего спокойно, отдыхающего, достигшего своей цели! Нет ни одного, ни единого! Все они бешено состязаются в беге ввысь и вглубь, – ибо, по слову Алеши, «кто вступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно ступит и на верхнюю»; они мечутся во все стороны, бросаются в стужу и в огонь, жадно хватаясь за все, ненасытные, не знающие меры, ищущие и находящие свою меру лишь в беспредельности. Как стрелы, они устремляются с вечно напряженной тетивы своей силы в небо, всегда к недосягаемому, всегда направляясь к звездам; в каждом из них – пламя, в каждом – искра тревоги. А тревога приносит муку. Поэтому все герои Достоевского – великие страдальцы. У всех искаженные лица, все живут лихорадочно, в судороге, в спазме. Больницей для нервнобольных в ужасе назвал мир Достоевского один великий француз, – и действительно, для первого, для внешнего взгляда, какая тусклая, какая фантастическая сфера! Трактиры, наполненные испарениями водки, тюремные камеры, углы в квартирах предместий, переулки публичных домов и пивных, – и там, в рембрандтовском мраке, кишит толпа исступленных образов: убийца с кровью своей жертвы на руках, пьяница, возбуждающий всеобщий смех, девушка с желтым билетом в сумерках переулка, ребенок-эпилептик, побирающийся на улице, семикратный убийца на сибирской каторге, честный вор, умирающий в грязной постели, – какая преисподняя чувства, какой ад страстей! О, какое трагическое человечество, какое русское, серое, вечно сумрачное, низкое небо над этими образами, какой мрак души и ландшафта! Страна несчастий, пустыня отчаяния, чистилище без милости и без надежд.