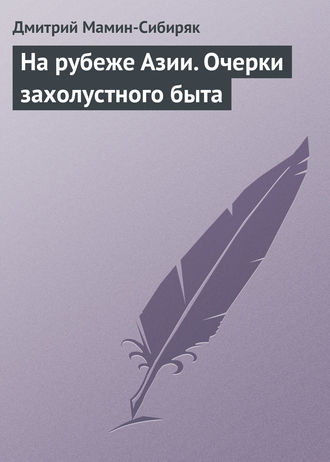 полная версия
полная версияНа рубеже Азии. Очерки захолустного быта
– Совершенно даже напрасно-с, отец Викентий, – покашливая, отвечал Меркулыч: – Сгоряча оно точно иногда горячку порешь, а потом одумаешься… Вы рассудите так: вот вы сами отличный аттестат имеете, кончили курс в семинарии, а какое ваше положение?..
– А-ах, Меркулыч, Меркулыч! – застонал отец. – Ведь меня кто придавил: Амфилошка Лядвиев… Да!..
– Амфилошка Амфилошкой-с, отец Викентий, а и сами вы не правы, – вкрадчиво заговорил Меркулыч, раскуривая папиросу и усаживаясь на кончик стула, причем он бережно загнул фалды своего казинетового пиджака. – Да, вы сами не правы.
– Я? Не прав?!.
– Да-с, – по-прежнему кротко отвечал Меркулыч, пуская с необыкновенным искусством колечко синего дыма. – Сделаемте такое рассуждение, отец Викентий: вам встал поперек дороги консисторский секретарь Лядвиев и не дает ходу, а вы бы собрались как-нибудь, да рыбки ему пудик послали, шишечек кедровых, чайку фунтик…
– Да я ему, подлецу…
– Позвольте, отец Викентий, – мягко остановил отца Меркулыч. – Я хочу сказать, что вы не хотите покориться под Лядвиева и оказать себя подлецом… Так-с?
Отец понял, к чему клонились подходцы Меркулыча, посмотрел на него и, улыбнувшись, проговорил:
– А ведь ты умным человеком оказываешь себя… Извини, брат, не ожидал… Ты, значит, только по виду-то прост кажешься?
– Уж как мать родила-с, отец Викентий, – нисколько не обидевшись грубоватой откровенностью отца, отвечал с улыбкой Меркулыч. – Без хитрости по нонешним временам даже совсем невозможно-с: курица, и та норовит заклевать тебя. А я, собственно, к тому веду речь, что вы напрасно изволите так сокрушаться об Аполлоне Викентьиче: может, у них судьба такая. А я, грешный человек, иногда смотрю на вас, и вчуже мне жаль вас делается: человек вы образованный, с головой человек-с, и вдруг Лядвиев вас заключает в Таракановку… Вот я маленький человек, а я счастливее вас, потому я вольная птица: не захочу служить, буду торговать, и никто мне ее указ. И выходит, что при моей глупости мне не в пример легче вашего жить. Теперь возьмем Аполлона Викентьича: образование они для себя получили достаточное, поступят на завод, а лет через пять-шесть, глядишь, будут получать жалованья вдвое больше нашего. Человек он аккуратный, можно сказать, вполне самонадеянный, начальство увидит ихние труды, вот вам и отлично всем будет. Притом вот теперь Кира Викентьича тоже нужно в науку посылать, деньги нужны-с, а на двоих-то у вас, пожалуй, и недостало бы: и лета ваши не такие и здоровье слабое. А теперь что-с? Аполлон Викентьич поведут себя в лучшем виде-с и не только свою голову будут пропитывать, а и вам помогать станут за ваши заботы о них. Вот и выйдет так, что и вам будет лучше-с, и Кир Викентьич будут происходить свою науку-с… Да-с! Вы уж извините меня, отец Викентий, а я вам даже откровенно скажу-с, что нынче быть молодому человеку священником даже не в моде-с…
– Ну, это, брат, положим, что ты и врешь, а все-таки не ожидал… Нет, не ожидал в тебе такой прыти! Ты молодец… В самом деле: черт с ними со всеми!.. Наплевать!..
– Совершенно верно-с. Ведь шесть лет нужно было тянуть лямку-то и на вашей шее при этом…
– Веррно!..
– Оно сначала и мне это обидно показалось, а потом обсудил я это самое дело: не стоит-с!..
– Не стоит шкура выделки?
– Так точно-с.
Мать слышала весь этот разговор и с веселым лицом вошла в комнату.
– А я ведь то же самое думала, Викентий Афанасьич, – проговорила она: – разве уж только и свету в окне, чтобы в священники поступить…
Мы все собрались в гостиной, явился самовар, и в комнате раздался веселый говор и самый беззаботный смех: туча прокатилась; Аполлон рассказывал о своей поездке, о п-ской семинарии, профессорах и экзаменах. Отец смеялся вместе с другими и рассказывал о том, как сам учился в семинарии. Повторяя вечную историю об Амфилошке Лядвиеве, отец говорил уже в шутливом тоне:
– Подлец он, Амфилошка… А ведь вместе двенадцать лет учились… на одной парте сидели! А вот теперь придавил меня ногой, и баста… Думает: задушу, а может, бог-то и не оставит меня именно за его, Амфилошкину, неправду… Так?
– Злохудожественный человек, отец Викентий, – прибавил Меркулыч, поправляя розовый галстучек на шее.
VI
В августе месяце я расстался с Таракановкой и поступил в четвертый (последний по прежним порядкам) класс уездною духовного училища, находившегося в заштатном уездном городишке Гавриловске, при знаменитом Гавриловском монастыре. От Таракановки до Гавриловска было больше двухсот верст, и до губернского города Прикамска от Таракановки считали четыреста верст; притом жизнь в Гавриловске была вдвое дешевле, чем в «губернии», поэтому отец и отправил меня туда. Первое, что мне бросилось в глаза еще дорогой, это то, что по мере приближения к Гавриловску местность все понижалась, делалась ровнее, вечнозеленый дремучий хвойный лес сменился лиственными породами с их бледной зеленью, к которой совсем не привык мой глаз, и, наконец, потянулись волнистые оголенные равнины Зауралья, в центре которого стоял Гавриловск с своим монастырем. Этот город был просто деревня с несколькими церквами, и я сразу возненавидел его и в первый раз горько заплакал о своей милой Таракановке, потерявшейся в широком просторе Уральских гор. Все то, что раньше не имело для меня никакого значения, чего я даже не замечал, теперь тянуло меня с непостижимой силой к себе; особенно сильно тосковал я об уральских лесах, по которым бродил с Меркулычем; даже заводская фабрика с ее сажей, пылью, вечным грохотом казалась мне каким-то раем в сравнении с этими бесконечными полями, на которых глаз не находил ни одной высокой точки и которые шахматной доской зеленых озимей и только что сжатых полей уходили в бесконечную даль.
Самое училище помещалось в монастыре, за его толстыми стенами, видевшими башкирские бунты и пугачевщину. Прежде всего я явился к архимандриту Иринарху, настоятелю монастыря и смотрителю духовного училища; это был высокого роста, еще очень молодой и в высшей степени красивый монах с длинными, белыми, как молоко, руками и с полузакрытыми ленивыми глазами. Он принял меня с такой важностью, что у меня похолодело на душе от предчувствия чего-то недоброго; на экзамене я отвечал бойко, но Иринарху больше всего не понравилась моя заводская развязность в сравнении с деревенскими поповичами, которые только потели со страху и дрожали, как в лихорадке.
– Как только приедешь в Гавриловск, сходи непременно к отцу Марку, – говорил мне отец на прощание: – Он славный парень был… На квартиру вставай к Ивану Андреичу, где Аполлон жил. Славный старик, хоть, не тем будь помянут, крепко нас дирал прежде.
Памятуя наставления отца, я отыскал в Гавриловске небольшой домишко Ивана Андреича. Это был совсем маленький домик, походивший на крестьянскую избу, с передней и задней половиной. В передней половине Иван Андреич держал кого-нибудь из учеников духовного училища, а в задней жил сам с своей женой Аришей. Иван Андреич выслужил сорок лет учителем уездного духовного училища и теперь жил на покое, получая двенадцать рублей пенсии в месяц. На вид это был крепкий старик с какой-то деревянной физиономией и щетинистой бородой. Одевался он зимой и летом в полосатый тиковый халат и в таком виде ходил по всему Гавриловску. Грубоватый на вид, Иван Андреич был собственно добрейшей души человек, и ему нужно было пройти сквозь огонь и медные трубы бурсацкой жизни, чтобы прославиться на целую губернию самой жестокой поркой. Ариша была как раз по плечу Ивану Андреичу: низенькая старушка со сморщенным лицом, не вылезавшая из ветхого ситцевого платья, любившая поворчать и воображавшая себя очень проницательной; главным ее достоинством было умение кормить своих постояльцев.
У Ивана Андреича был сын Антон, который жил в передней половине вместе с нахлебниками. Это был очень веселый и очень взбалмошный парень, который с первого же раза отнесся ко мне самым враждебным образом. Кроме Антона и меня, в передней половине поместился еще сын о. Марка, которого все звали Гришкой. Это был уж совсем отчаянный человек, обладавший притом здоровенными кулаками. Гришка и Антон встретили меня, как новичка, глухим ворчанием и к вечеру же отколотили наижесточайшим образом. Таким образом, я был посвящен в тайны бурсацкой науки. Первую ночь, которую я провел под кровлею домика Ивана Андреича, я проплакал напролет; бессильная злоба душила меня, но вместе с тем я сознавал, что я теперь отрезанный ломоть, как говорил отец, и должен был испить чашу до дна. Далекая Таракановка встала передо мной в самых радужных красках, и я, задыхаясь от слез, до самого утра думал о ней, о матери, сестрах, Луковне, Меркулыче, Январе Якимыче.
Приемный экзамен я выдержал порядочно и поступил в высшее отделение, то есть в последний класс, где, к моему несчастью, мне пришлось учиться вместе с Антоном и Гришкой. Впрочем, я скоро освоился с ними и даже до известной степени привык к побоям: ощущения физической боли притуплялись, а чувство собственного достоинства я почти совсем утратил. Как это случилось, я не могу дать себе отчета в настоящее время, помню только, что я сначала потерялся, потом ушел в себя и, наконец, глубоко возненавидел бурсу и Гавриловск. О способе учения считаю излишним говорить подробно, потому что он совершался самым ветхозаветным образом, и все дело в конце концов сводилось только на одно голое зубрение, мертвившее детский ум и парализовавшее всякое проявление самодеятельности молодой мысли.
Отец Марк жил в большом селе Заплетаеве, до которого было от Гавриловска верст десять, вниз по реке Ирени. В будни мне некогда было сходить туда, а в праздник я боялся встретить там Гришку с Антоном. Свободное время, которое у меня выдавалось в праздники, я посвящал уединенным прогулкам за город, особенно по течению Ирени, где было несколько отличных рыбных мест. У меня было несколько удочек, с которыми я забирался рано утром куда-нибудь подальше; там проводил целый день, предаваясь этим воспоминаниям, и подолгу лежал на траве с закрытыми глазами, вызывая в своей памяти дорогие мне лица, места и события. Я еще раз переживал здесь все то, что осталось в Таракановке.
Однажды – это было в начале августа – день выдался такой теплый да светлый, точно вернулось опять лето. Я забрался под иву с раннего утра. Рыба брала плохо, и я мог мечтать, сколько душе угодно, без ущерба делу. Накануне я получил письмо от отца, и хотя в нем ничего нового не было, я находился в особенно мечтательном настроении и совсем не заметил, как один из поплавков начал тревожно нырять.
– Тащите… клюет! – крикнул за моей спиной чей-то голос, и, прежде чем я успел оглянуться, маленькая белая ручка схватила одну из моих удочек и торопливо выдернула из воды пустую лесу.
– Ах, какая жалость!.. – сердито проговорил тот же голос. – Как вам не совестно так зевать?..
Я оглянулся и сильно смутился. Предо мной стояла красивая девочка лет четырнадцати в белом пикейном платьице и сердито смотрела на меня красивыми карими глазами.
Как во сне мелькнули пред мной гладко зачесанные светло-русые волосы, ярко-алая лента на белой шейке, маленькие белые руки с розовыми пальчиками и очень красивое, теперь нахмуренное личико с вздернутым носиком. Я совсем растерялся и молчал. Девочка сердито топнула ножкой и, отдувая розовые пухлые щеки, капризно проговорила:
– Что же вы молчите, как пень? Я, кажется, с вами говорю… А как отлично клевала!
Девочка громко засмеялась. Доктор Обонполов еще больше смутился.
– Вероятно, из духовного училища? – спросила она. Я подтвердил это предположение. – А как ваша фамилия?
Я назвал себя.
– Так это вы и есть Кир Обонполов… – растягивая слова, проговорила девочка. – Отчего вы к нам не приходили?.. Пойдемте. Меня зовут Симочкой. Папа будет очень рад. А что ваш брат?
Не помню, что я отвечал на этот вопрос; об удочках я забыл и приготовился покорно следовать за незнакомкой, не спросив даже, куда она меня ведет.
– А удочки? – спрашивала моя незнакомка, когда мы сделали несколько шагов. – Как это глупо!..
Пока я вынимал удочки и сматывал лесу, к нам подошла большая барышня, одетая в изящное летнее платье из сурового полотка.
– Агничка, посмотри, какую я находку сделала, – весело говорила Симочка, кивая в мою сторону головой. – Имею честь представить: братец Аполлона, Кир Обонполов.
Агничка лениво посмотрела на меня, потом перевела свой взгляд на сестру и улыбнулась. Мне показалось, что она думала: «Хороша находка… какая ты глупая, Симочка! Ну, что мы будем делать с этим болваном?»
– Пойдемте, – проговорила Симочка, точно отвечая на мою мысль. – Мы скоро будем обедать… Ух, как я устала!..
Мы пошли по направлению к Заплетаевскому селу, которое виднелось верстах в четырех. Всю дорогу Симочка щебетала, как птичка, немилосердно тормошила меня и заливалась неудержимым, заразительным смехом, заставлявшим улыбаться меня, вероятно, самым глупым образом. Агничка жаловалась на усталость и несколько раз многозначительно проговорила:
– Он совсем не походит на брата… ничего похожего нет!
Меня осенило какое-то просветление, и я понял смысл этой фразы, то есть что Агничка находила меня просто безобразным сравнительно с братом Аполлоном. Эта мысль произвела на меня гнетущее впечатление. Моему самолюбию был нанесен жестокий удар, потому что как я ни преклонялся пред совершенствами Аполлона, но в настоящую минуту я почувствовал мучительное желание быть красивым, ловким, любезным, по крайней мере, кавалером вроде Меркулыча. Ах, зачем у меня не было хоть частички достоинств моего друга! Я испытывал глубокое чувство унижения и страстно желал вернуться обратно в Гавриловск, чтобы выплакать свое горе где-нибудь в углу; но о бегстве нечего было и думать, – оставалось идти вперед. Все, что я пережил на пути от моей ивы до Заплетаева, можно сравнить разве только с тем, что чувствует утопающий человек.
Заплетаевское село было больше Гавриловска. Оно раскинуло свои крепкие домики тоже по берегу р. Ирени и весело глянуло на нас своей каменной белой церковью и широкой улицей. Недалеко от церкви стоял пятистенный деревянный дом в один этаж с красивым мезонином и широким двором. Это и был домик о. Марка, куда мы шли, как я догадался.
– А вот и папа! – звонко крикнула Симочка, указывая головой на сухонького низенького старичка, который сидел на крылечке и стругал какую-то палочку. Он был одет в старый, разорванный подрясник, из больших прорех которого вылезли клочья грязной ваты. На голове была надета донельзя затасканная меховая шапка, на шее намотан пестрый гарусовый шарф. – Папа, отгадай, кого мы привели к. тебе? – кричала Симочка, подбегая к старику.
Старик повернул ко мне свое острое, изрытое оспой лицо, зорко оглядел меня с ног до головы своими бойкими карими глазами, сделал какую-то гримасу и с веселой улыбкой отвечал:
– Где вы такого зверя откопали?
Когда старик улыбнулся и заговорил, в его некрасивом лице мелькнуло то же добродушно-лукавое выражение, которое не сходило с личика Симочки, и я догадался, что это и есть тот знаменитый о. Марк, о котором отец всегда спрашивал Аполлона и которому мы все завидовали.
– Что, не узнаешь меня, паренек? – весело заговорил о. Марк, бойко соскакивая с своего места. – А ведь мы с твоим-то отцом вместе учились… вместе. На одной парте двенадцать лет высидели. Понимаешь? А Иван Андреич, разбойник, бывало, вместе нас и драл… У, как драл, разбойник!
Как-то забавно привскочив на одной ножке и лукаво прищурив глаза, о. Марк продолжал:
– А ты, паренек, отведал березовой каши?.. а? Чик-чик-чик… а? Ничего, после спасибо скажешь… А Иван Андреич драл… у, как драл, разбойник! Бывало, разложит нас с отцом-то твоим и прогнусит: «А закатить Филемону и Бавкиде пятьдесят горячих»… Ух!.. Небо с овчинку! А я Ивану Андреичу и шепну: «Иван Андреич, гуська привезу…» Сейчас смилуется. «Ты у меня добрый парень, садись на место!» Вот как жили, паренек, а вы что – время даром проводите!..
Агничка ушла в комнату, а Симочка стояла и смеялась. Я покраснел, как рак, и окончательно растерялся, а о. Марк так и заливался своим дребезжавшим безобидным смехом.
– Ну, соловья баснями не кормят, Серафима Марковна, – заговорил о. Марк, – ты у Ивана Андреича стоишь, паренек? Ну, значит, досыта не наедаешься и с голоду не умираешь… Так, так! Знаешь поговорку: держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле… Satur venter non studet libenter.[5] Ты с моим блудным сыном, значит, живешь… Колотит он тебя, разбойник?.. Он и меня скоро будет колотить… Да, да!.. Ты от него подальше, коли хочешь добра!
Пятистенный домик о. Марка был устроен внутри на славу, так что у меня даже глаза разбежались: мягкая мебель, дорогие обои, ковры, бронза и даже вазы. Особенно хороша была небольшая голубая гостиная с мебелью, обтянутой голубой шелковой материей, С голубыми драпировками на дверях и окнах, с голубыми обоями и небольшой бронзовой люстрой, спускавшейся с потолка. Зато кабинет о. Марка отличался большой простотой: в одном углу стоял трехногий стол с какими-то бумагами, в другом столярный верстак, два простых стула, и только. Я почувствовал невольную робость в этих богатых комнатах и сразу понял всю разницу между ними и нашими убогими комнатками в Таракановке. Здесь же я понял источник нашей фамильной гордости, которая должна была вознаградить нас за те блага, каких нам недоставало. Я пришел даже в некоторый священный ужас, прикинув в уме, сколько могла стоить вся эта обстановка в доме о. Марка, особенно если сравнить с теми героическими усилиями, каких стоили нам наши жалкие вещи. Да, будущий доктор не умом, а всеми своими чувствами в первый раз испытал щемящее чувство зависти и подавляющую силу богатства.
– А ты, Кирша, умеешь бревна возить? – спрашивала меня Симочка, которая с двух слов поставила себя со мной на короткую ногу.
Я сознался в своем невежестве. Симочка подвела меня к небольшому столу из «мороженого» железа под малахит, наклонила головку и провела белым лбом по полированному железу. Получился дребезжащий звук, действительно походивший на то, как будто по улице ехали с бревном. Симочка несколько раз повторила эту штуку, а потом заставила проделать ее меня. Будущий доктор на этот раз вышел из затруднения самым блистательным образом: стол под моим лбом затрещал неистово, и Симочка с восторгом принялась громко аплодировать моим успехам. Эти похвалы настолько разожгли мое усердие, что на лбу у меня всплыла большая красная шишка, но это вышло еще забавнее, так что я совсем позабыл о своем желании провалиться сквозь землю или, по меньшей мере, удрать обратно в Гавриловск.
Нужно ли говорить, что мы отобедали самым веселым образом, весело играли долго после обеда – вообще провели целый день самым отличным образом благодаря удивительной изобретательности Симочки и еще более удивительной готовности Кира Обонполова исполнять все ее желания и капризы. Дело кончилось тем, что будущий доктор с ловкостью медвежонка очутился, наконец, на крыше и даже был согласен спрыгнуть прямо с высоты нескольких сажен, чтобы только заставить Симочку смеяться ее серебристым смехом. Совершенно излишне упоминать о том, что когда Кир Обонполов возвращался в Гавриловск, – в его идеалах оказалось значительное приращение, именно, что он не только будет доктором, а еще должен жениться на Симочке.
Да, это была настоящая первая любовь «с окрыляющим жаром молитвы и с целомудренными восторгами», любовь, которая приносила много явных и тайных огорчений, мук и терзаний, выкупаемых светлыми полосами тайного счастья, – любовь, которая, как весна в году, не повторяется. Я очень часто бывал в Заплетаеве и проводил время отличным образом; но на горизонте моего счастья стояло уже черное облако – это архимандрит гавриловского монастыря и смотритель нашего училища Иринарх, который тоже очень часто навешал о. Марка и с которым Кир Обонполов, по некоторым обстоятельствам, меньше всего желал встречаться где бы то ни было, – сказать проще, будущий доктор боялся Иринарха, как огня. Впрочем, Иринарх посвящал свой досуги исключительно одной Агничке. О. Марк хлопотал по хозяйству и, по-видимому, совсем не обращал внимания на эти таинственные tete-a-tete, происходившие у него под носом. Раз, дурачась с Симочкой, я с разбегу влетел в комнату Агнички, и мне показалось, что она сидела на коленях у архимандрита и при моем появлении быстро отскочила. Мне, конечно, показалось все это, и я никогда не поверил бы в возможность такого случая между Агничкой и Иринархом. Эти таинственные уединения давали нам с Симочкой полнейшую свободу, чем мы и пользовались. Симочка была отличная девочка и держала себя со мной как товарищ. Чем дальше подвигалось время, тем сильнее любил я ее и страшно скучал, когда дня три мне не приходилось бывать в Заплетаеве. Симочка отвечала мне тем же и не раз приезжала за мной на квартиру к Ивану Андреичу на маленькой серой лошадке, которой всегда правила сама. Когда выпал снег, мы на этой лошадке устраивали отличные пикники.
Мне казалось, что Иринарх глубоко ненавидел меня и не упускал случая сделать мне что-нибудь «неудобосказуемое». На монастырском дворе, в двух шагах от училища, стоял знаменитый «каменный мешок», то есть длинный каменный флигель, имевший форму мешка, в котором проживал «смиренный Иринарх», как официально подписывал свое имя наш смотритель. Снаружи трудно было представить что-нибудь безобразнее этого каменного мешка: штукатурка на стенах облезла, кирпичи выкрашивались, железная крыша во многих местах проржавела, маленькие окна с железными решетками смотрели неприветливо, как в тюрьме, и само здание походило на каменный гроб. Но какой резкий контраст находил каждый, кто имел счастье проникать вовнутрь этого склепа! Ряд щегольских, уютных комнат открывал восхитительный вид в тенистый садик, примыкавший к флигелю сзади; в этих комнатках стояла вечная весна из всевозможных растений, которые были собраны в них со всех концов света. Картины, фотографии, письменный стол, украшенный тысячью дорогих безделушек, библиотека – все это делало келью монаха самым уютным каменным гнездышком, в котором все дышало роскошью и изяществом. Летом это был настоящий райский уголок, отгороженный от остальной юдоли плача высокой и толстой монастырской стеной; небольшая терраса выходила в сад и вся тонула с ранней весны в чудесах экзотической зелени, и Иринарх любил нежиться на этой террасе, покачиваясь в вольтеровском кресле с последней книжкой какого-нибудь журнала. Небольшой квадратный садик, устроенный в углу монастырской ограды, представлял из себя чудный, затянутый зеленью уголок, но я не могу вспомнить о нем без невольного трепета… Я имел несчастье попасть в хор певчих, и поэтому мне очень часто приходилось бывать в покоях владыки Иринарха, который был большой знаток и любитель пения; бывало, призовет нас, певчих, и держит часов шесть. Сам Иринарх владел отличным бархатным тенором и любил подпевать нам; певчие были его фаворитами и любимцами, но его любовь была страшнее ненависти, и каждая улыбка заставляла нас дрожать. Иринарх баловал нас, закармливал сластями, и все-таки мы боялись его, как огня, потому что чем тише и ласковее становился его взгляд, чем чаще начинал он улыбаться, тем тяжелее была его рука, – и пока он сладко дремал на своей террасе, полузакрыв глаза, в садике раздавались оглушительные вопли наказываемых розгами. Мы, певчие, должны были стоять вдали, у стенки террасы и терпеливо дожидались, когда владыка своим бархатным тенором протянет: «довольно». Кто побывал в бархатных лапках Иринарха, тот на всю жизнь не забудет звуков этого бархатного голоса, этих лениво полузакрытых глаз и выразительного бледного лица с матовой кожей.
Если бывают вообще загадочные натуры, то такой загадочной натурой был Иринарх: мучить других для него составляло утонченнейшее наслаждение, и ему нужны были детские слезы, мольбы и вопли, чтобы он мог спокойно дремать в своем кресле; что-то зловещее светилось в этих серых с поволокой глазах, когда они останавливались на вас своим долгим магнетизирующим взглядом, потрясавшим всю нервную систему. Иринарх действовал не столько на тело, сколько на душу, создавая целую пытку для нервов; некоторые падали в обморок от одного его взгляда. А между тем это был очень образованный человек, поступление которого в монахи окружено было самой глубокой таинственностью; кроме того, глубоко художественная натура Иринарха сказывалась во всем и даже в том высокохудожественном зле, которое он сеял кругом себя. Жить он умел, как никто другой, и пока монастырская братия сидела на кислой капусте и горошнице, Иринарх имел самую изысканнейшую кухню и попивал двадцатипятирублевый рейнвейн. Слава об Иринархе гремела по всей губернии, и в гавриловский монастырь из-за сотен верст стекались благочестивые души, жаждавшие слушания «медовой службы» Иринарха и уединенных бесед с этим пастырем словесного стада в его игрушках-комнатах. Рассказывали, что богомольные красивые барыни приезжали за тысячи верст, чтобы посмотреть красавца-владыку и удостоиться поднести ему какой-нибудь ценный подарок на память. Иринарх очень благосклонно относился к этим «взыскующим града», и слава его росла вместе с рассказами о его тысячных рысаках, дорогих обедах и тонких винах.











