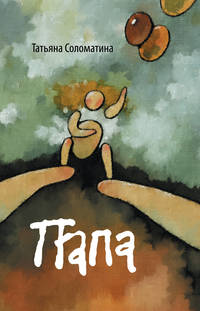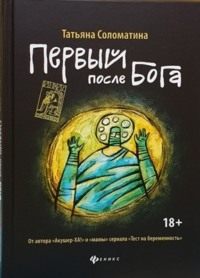Полная версия
Мой одесский язык

Татьяна Соломатина
Мой одесский язык
Книжному магазину «Москва» на Тверской
На правах предисловия
В рамках программы «Литературные столицы мира» в книжном магазине «Москва» был запланирован «Урок одесского языка». С викторинами, говорящими писателями и розыгрышем ужина в рыбном ресторане. Рыбный ресторан в Москве – это само по себе да, не правда ли? Как, впрочем, и книга «Мой одесский язык», посвящённая книжному магазину «Москва». Но жизнь вообще насквозь прошита несоответствиями, нелепицами и прочими казусами. Вернее, нам кажется, что жизнь прошита казусами, а на самом деле вся наша жизнь и есть казус. И если я сейчас продолжу в том же духе, то никогда не перейду к следующему абзацу, а значит, не закончу предисловие и не примусь за собственно книгу. И это будет вполне по-одесски. Потому что пресловутый одесский лаконизм:
А, погода! – Плохая погода.
А, как вам это нравится? – Сплошное непотребство.
А, Бортник! – Нехороший человек по фамилии Бортник[1]…
…родился из одесского же многословья. Так много всего надо успеть сказать о той же погоде, о том же сплошном непотребстве и о том же нехорошем человеке по фамилии Бортник, что в устной речи волей-неволей приходится быть интонационно-афористичным. Другое дело – бумага. Все те одесситы, что стали известными московскими писателями, были просто-напросто вынуждены ими стать. Их, понимаете ли, никто не слушал! Вы когда-нибудь сидели за накрытым в тени винограда столом где-то под Жеваховой горой? А я – да. Меня никто не слушал. И я стала писателем. Теперь они читают мои книги. Но меня по-прежнему никто не слушает за накрытым в тени винограда столом где-то под Жеваховой горой. Они так шумно мною гордятся, меня хвалят, меня же осуждают (тут же – невзирая на моё присутствие) и вообще – страшно сплетничают, перебивая друг друга, что мне только и остаётся, что писать книги.
– Ну, Танька-то да? – Соломатина – матёрый человечище.
– Помните, вечно мы ей рот заткнуть не могли! – Она сегодня так прекрасно говорила со стула на Дерибасовской! Мы очень гордились!
– Ой, как мне приятно её видеть сейчас, она стала такая красивая! – Слава богу, что она так растолстела, и я больше могу не беспокоиться за Павлика. Он вечно пялился на её тощие коленки![2]
Так что в Одессе кто потактичнее и послабее в застольной риторике – тот и писатель. Кто совсем уж скромен и немногословен, тот в Одессе – известный московский писатель. Поэтому пусть вас не удивляет ни посвящение, ни всё прочее, что делает Одессу и Москву не просто кровными сёстрами, но любящими, нежными, хотя и страшно склочными ближайшими родственницами-подружками.
Да! Так продолжим то, с чего начали. С книжного магазина «Москва» и «Урока одесского языка».
Получив приглашение принять участие в акции, я смутилась. Очень смутилась. Вспомнив «одесскую плеяду», «южнорусскую школу», улицу Пушкинскую в Центре, ахматовскую скамейку на Фонтане, бунинские «Окаянные дни», маяковское почти лирическое «Облако в штанах» (не очень тактично поминать Бунина и Маяковского рядом, ну да их проблемы уже иные) и, в конце концов, Михал Михалыча Жванецкого, покраснела – и все мысли выветрились из головы. Крутилось только ильфо-петровское «Гомер, Мильтон и Паниковский». Я-то там, в «Москве», на «Уроке одесского языка» по какому такому праву? Лишь по факту того, что у меня в паспорте гражданки Российской Федерации в графе «Место рождения» написано «ГОР. ОДЕССА»? Или же потому, что любая моя книга, поступающая в продажу в книжный магазин «Москва», медленно, но уверенно каждый раз оказывается в топ-20, а то и в топ-10 продаж русской прозы, а «Приёмный покой» даже целых четыре часа был книгой месяца, после чего руководство магазина резко сменило политику на правильную и духовную – не зависящую от читательского спроса (одобряю, кстати!)?
Спустя час паники подступила эйфория гордыни. Я почувствовала себя like a pain in the ass (что в переводе с одесского на московский означает – «как вилка в жопе», – то есть очень крутой и сильной). Меня! Живую, никому не известную (до степени живущего Жванецкого) вполне уже известную российскую писательницу, родившуюся в Одессе, пригласил самый независимый книжный магазин Москвы, чтобы я провела не что-нибудь там, не какую-то жалкую презентацию собственной книги, а целый урок одесского языка!
Я собрала с книжных полок Бабеля и Врубеля (который Михаил Александрович и «Демон». Он, между прочим, окончил Ришельевскую классическую гимназию в Одессе, хотя и родился в Омске. Много кто из «одесской плеяды» в Одессе не родился, так что и Врубеля схватила, хотя он и художник-символист), Олешу и Катаева, Ильфа и Петрова, Багрицкого и Паустовского, Ратушинскую и Жаботинского (до кучи – Пушкина, Тэффи и Аверченко), уложила на столе живописную пёструю кладку, сверху придавила тома великих своей скромной «Большой собакой» – и стала гордиться.
Погордившись, я схватилась за перечитывание мэтров и мэтресс с остро отточенным карандашиком, обложилась блокнотами и раскрыла чистый лист Word’а…
Через неделю пухлый «доклад на тему» «Урок одесского языка» был готов. В кабинете моём царил творческий бардак, а в нечёсаной голове носился хитрый маленький лис: «Ты это на полном серьёзе?» То есть – перевожу с одесского, хотя кому это сейчас надо, если всем и так всё понятно: «Ты всё это написала вполне серьёзно? Лавры литературоведов покоя не дают? В филологи метишь? В исследователи? В яростные борцы с «жарой» и «холодом», в апологеты «пекла» и «зусмана»?»
Я тебе на полном серьёзе говорю: это же такой шмок, что он залетел в дурдом безо всякого блата, и не когда-нибудь, а во время призыва в армию. Сам знаешь, в это время у них койки на вес золота[3].
В дурдом не хотелось даже по блату, потому что в армию мне не надо. Мне надо не опозориться в магазине «Москва» с «Уроком одесского языка». Я же понимаю, что не владею микрофоном (пока), как Жванецкий, чтобы да. Я – Соломатина, и потому мне может быть вполне фиаско. И напихают мне слушатели полный рот презрения:
– А, Соломатина! – Нехороший человек по фамилии Соломатина.
Уже так и виделись снисходительные ухмылки профуканных мною потенциальных читателей. А тут ещё в почту сыпались «дельные» советы от маркетинговых и пиар-отделов, мол, прочитайте Власа Дорошевича. Да я Власа Дорошевича читала уже тогда, когда эти маркетологи с пиарщиками комбинации из трёх пальцев (в одесском языке – дуля, в русском – кукиш или фига, хотя где сейчас дуля не дуля?) своим родителям из колыбельки показывали. И уже тогда он был артефактом с бородой по калоши.
Буйну голову повесив, я тщательно измельчила свой «доклад» и спалила его в камине. И пошла грустить на веранду. Спустя час грусти передо мной лежал следующий рукописный текст:
МОЙ ОДЕССКИЙ ЯЗЫКМой одесский язык.
Это – язык акаций Амбулаторного переулка. Пламя тюльпанов, дух пионов, вечный песок в сандалиях и коленки в зелёнке. Чьи-то дети гуляют в садиках, а я гуляю на пляже. Я не знаю о детях в садиках, мне кажется, что все дети гуляют на пляже. Вы гуляете по пляжу? В моём детском языке я гуляю на пляже.
Шестнадцатая – не номер, а имя собственное.
В моём море есть рыба-игла, опасная рыба-петух и морской конёк. Потом их нет, сейчас снова есть, но все мои остались в начале семидесятых двадцатого, в море на пляже Шестнадцатой. Я деру мидию. Все пальцы в мелких выбеленных порезах. Я расту в морской воде. За меня никто не боится. Я научилась плавать раньше, чем ходить и говорить.
«Ваша девочка слишком много время проводит в воде. Шо?.. Я говорю вам, ваша девочка слишком много время проводит в холодной воде! Шо?!. Выньте ребёнка из воды, говорю вам! Нет, ну шо такое, а? Юра, я скажу вашей жене, куда вы смотрите вместо ребёнка, и вы больше никада не будете видеть!»
На моей Шестнадцатой все друг друга знают. Я принесла домой корнерота в огромном пакете с морской водой и выпустила его в аквариум с маленькими пресноводными рыбками.
«Вот точно так же к Заруцким када-то приехал Николай Иванович немного погостить, а они умерли все в том году. Тоже был неудачный опыт, а вы ребёнка ругаете!» – резюмирует сосед.
Я долго плачу, потому что мне жалко корнерота и рыбок, а Заруцких не жалко, потому что не мой неудачный опыт.
Шестнадцатая, и розовый куст, и виноград «Лидия», невкусный, сопливый, но дед из него делает вино. Огромные десятилитровые бутыли, сверху по пробке обмазанные пластилином. На нём хорошо остаются отпечатки пальцев, если надавить. Я подрастаю, и в моём бездумном акациевом солёном языке появляется акцент цветущих свечек.
Мой одесский язык – это язык каштанов за окнами. Проспект Мира, 34, угол Чкалова. Центр Шестнадцатой Вселенной сменяется центром города.
«Таня, какие кактусы? Они здесь не выживут. Кактус любит пустыню. Но не потому, что нет воды, а потому что солнце. И хотя у нас в очередной раз нет воды не только после двенадцати ночи, а в очередной раз всегда, но у нас никогда нет солнца из-за этих каштанов. Скажи спасибо папе. Он – гуманист. Он не может поливать живое соляркой, как все. Он даже права не смог получить, хотя дедушка купил нам машину. Теперь дедушка ездит на нашей машине, потому что твой папа пугливый гуманист! Так что можешь посадить бегонию, она может жить в темноте, как твой папа».
Налево из подъезда я хожу в сто восемнадцатую «привозную» школу. Из нашего адреса – проспект Мира угол Чкалова – можно сразу выйти на Воровского. У нас тройной проходной двор.
«Детка, как жаль, шо ты не еврейка! Такая чудесная девочка – и не еврейка! Отличница, красавица и не еврейка! Ты бы могла выйти замуж за нашего внука, када вырастешь, но даже када ты вырастешь – ты не будешь еврейка! Это так нехорошо… Еврей может спать с русской, но он не может жениться на русской… Сёма, шо ты меня одёргиваешь, ради бога?! Она уже взрослая, у неё уже пионэрский галстук! Такая хорошая девочка, умница, жаль, шо не еврейка, вы с Эдиком такая прекрасная пара, как жаль!»
Мой одесский язык – это язык широкого мраморного подоконника, прохладного в самую липкую жару. Ранним утром быстро-быстро по Долгой, но уже не по улице, а просто по долгой улице Чкалова. Карла Маркса, Ленина, Пушкинская, туберкулезная улица Белинского, венерический переулок Веры Инбер, бесконечная лестница – и ты уже на Ланжероне. Тут белые шары, вернее, они – там, а ты купаешься тут, потому что тут в море есть заветный камень. Летним днём о нём знают все. Ранним осенним утром – только ты.
Вверх бесконечнее, чем вниз. Но ты же не будешь ныть, как Эдик? Эдик с бабушкой, а ты один на один с лестницей, извилисто ведущей на бесконечный верх. Низ наступает быстро, верху нет предела, только пот, потому что быстрее и быстрее, остановишься – всё! – будешь ныть в бетонные ступени.
Награда – холодный мраморный подоконник. Мрамор не так равнодушен, как бетон. С ним можно говорить. Кулёк «Театральных», «Тридцатилетняя женщина» Бальзака в синем. Моя русская мама, получившая хорошее образование, воспитанная на правильной русской речи, даже не замечает, как она говорит, надышавшись за много лет этим Городом. Для неё это уже естественно, выверено, как атмосфера Земли естественна для гомеостаза млекопитающих. Вас в Москве отправляли гулять? Меня в Одессе отправляли «дышать воздухом», и не подумайте, что в квартире мы ходили в скафандрах из-за повышенной концентрации сернистых газов, доставленных нам в баллонах с Венеры.
«Не грызи, испортишь зубы. Не порть глаза, иди на улицу дышать воздухом!»
Покорно плетёшься на улицу дышать городской пылью. Твой лучший друг – театральная тумба, обклеенная афишами. Когда-то там обязательно будет твоя фамилия. Та, которая будет твоей.
Но пока у тебя нет той фамилии, что будет на афишах. Зато у тебя есть Твой Крест. Огромный крест в кроссовках, шерстяной юбке, кружевном жабо и с вечной авоськой. В авоське у Твоего Креста творог и ноты. За творогом Твой Крест ходит на Привоз, а ноты Твой Крест носит с собой всегда. Ты живёшь на пути пешего хода Твоего Креста с Привоза к себе домой. Но Твой Крест никогда не идет к себе домой, пока не зайдёт к тебе домой. Имя Твоему Кресту – Каверзнева Надежда Викторовна. Ей мало истязать тебя три дня в неделю в ДМШ № 2, она ходит к тебе ещё и все остальные четыре. У Твоего Креста нет мужа, нет детей, нет внуков. Есть сестра в Москве и ты, маленький мученик с поцарапанным «Театральными» языком.
«Девочка совершенно бездарна. Совершенно. У неё не гнутся небеглые пальцы, и она не имеет никаких музыкальных способностей. Но я сделаю из неё музыканта. Девочка поразительно бездарна. Девочка гениально читает с листа. Вы знаете, как ваша дочь читает с листа? Я никогда не поставлю ей больше тройки, я пошла к учителю сольфеджио и приказала её пятерку исправить на тройку. То, что она в третьем классе пишет диктанты для второго курса композиции, ничего не значит, потому что у неё совершенно нет слуха. Она просто всё запоминает. Она помнит звук… Как ты сидишь? Пока я говорю, или твоя мама говорит, или пока не закончится похоронная процессия папы римского, ты сидишь так, как я тебя учила, или сразу вставай и ложись, потому что если ты не сидишь так, как я тебя учила, нечего и начинать! Всем наплевать на твои желания, никому не наплевать на твою породу. Девочка, ты абсолютно бездарна, но у тебя есть порода. Ты будешь тем, кем захочешь, если будешь сидеть так, как я учила, и столько, сколько я скажу! Музыка тут совершенно ни при чём. Но я сделаю из тебя музыканта! И если ты думаешь, что музыкант – это тот, чья фамилия на афише, – ты ещё глупее, чем кажешься. Но твоя фамилия будет на афише. Так или иначе!»
Мой одесский язык – это мерный язык чёрного гробика, поставленного на попа́. Если вам плохо – запустите в тишину метроном. Когда у него кончится завод – кончится ваше плохо. Что начнётся после – ваш крест.
Прямо из подъезда я хожу к подруге. Проспект Мира, 37. Я не должна дружить с этой девочкой. Так говорит моей маме завуч по воспитательной работе моей школы. Ещё завуч по воспитательной работе говорит: «Не будем говорить кто, но это была Суханова!» Моя мама сама завуч. Школы-интерната номер семь на Девятой Станции Фонтана. Я дружу даже с умственно отсталыми детьми, с детьми с поражениями центральной нервной системы и с детьми с ДЦП. Моей маме всё равно, что говорит завуч по воспитательной работе моей школы, поэтому я дружу с этой девочкой с проспекта Мира, 37. У неё тронутая бабушка. Она прошла всю войну, и она каждое утро ходит на Привоз узнать, почем мидия, помидора, абрикоса, синие, и купить себе пачку «Беломора». Девочка учится на тройки, в их доме говорят «споймать» и «извиняюсь», зато её мама – парикмахер, и она накручивает нам волосы на тонкие деревянные бигуди, предварительно намочив нам головы «Жигулёвским». И мы целый день ходим с кукольными локонами и пахнем скисшим хлебом. Как я могу не дружить с такой девочкой, даже если завуч по воспитательной работе моей школы говорит моей маме: «Оно вам надо?!»
Потом направо из подъезда я хожу в институт. Из нашего адреса – проспект Мира угол Чкалова – можно сразу выйти на Чкалова. У нас тройной проходной двор. Я сажусь на третий трамвай и еду до улицы Академика Павлова. Иногда эту остановку называют Художественным музеем и никогда – медицинским институтом. Главный корпус, анатомка, военная кафедра, кафедра микробиологии.
«Когда вы окончите институт, вы не только не будете помнить имена большинства преподавателей, но даже их лица не вызовут у большинства из вас никаких воспоминаний. Моё имя вы запомните!»
Штефан Эдгар Эдуардович. Я забыла микробиологию, но в моём языке есть имя, отчество и фамилия этого невысокого, кучерявого, язвительного, вредного, энциклопедически образованного польского еврея.
Мой одесский язык хорош настолько, что позволяет мне свободно общаться в среде носителей. Никогда на одесском Привозе во мне не вычислят москвичку, потому что я не спрошу, сколько стоят (только «почём») помидоры и никогда не оскорблю синий ругательным для него неблагозвучным словом «баклажан». Я легко меняю «чё» на «шо» (и даже на «шё», но это всё реже, всё реже… иных уж нет, а те – за океаном, и многих из них тоже уже нет) и не вздрагиваю, заслышав слова «споймать» и «извиняюсь». И уже давно еврейский мальчик Эдик – не Эдик, а Эд, профессор Массачусетского Технологического, и моё имя иногда бывает на афишах, спасибо Надежде Викторовне за её настоящую породу, и я знаю, каково оно – не останавливаясь, подниматься наверх, низкий поклон моим одесским склонам и лестницам. Словосочетание «монастырский пляж» в силу ряда причин для меня куда сакральнее всех ведических знаний, а на Таировском кладбище есть могилы любимых мною людей. Я могу рассказать о том, как останки семьи Воронцовых спасли евреи и почему они это сделали, или «Одесскую главу» «Евгения Онегина» наизусть. Но не этим хорош мой одесский язык.
Мой одесский язык хорош тем, что благодаря всем этим пляжам, афишам, крестам, взлётам и падениям, бассейну «Динамо», медицинскому институту имени Николая Пирогова, консерватории имени Неждановой и вечно разрушенной кирхе наискосок от неё, улицам и улочкам, дворикам, переходикам, мальчикам и девочкам, еврейским, украинским и русским, из хороших и плохих семей, здоровым и больным я научилась понимать. И благодаря тому же – редко когда соглашаться с очевидным.
– Девочка, ты понимаешь, шо не надо два часа сидеть в холодной воде?
– Понимаю.
– Так чего ты туда лезешь и там сидишь? Ты же заболеешь!
– А я так закаляюсь, шоб вы все уже были здоровы!
Я прочитала этот текст вслух своим подмосковным котам, и почему-то щёки мои стали мокрыми.
Коты смотрели на меня неодобрительно.
– А идите к чертям собачьим! – сказала я котам, утёршись рукавом. – Всё равно уже времени нет, да и не пристало писателю пользовать неавторский контент. Вот это – моё. Плохое оно или хорошее – но оно моё.
Коты, испугавшись слова «контент», принесли мне жирную полёвку в знак примирения.
На следующий день я стояла на маленьком подиуме в одном из торговых залов «Москвы». Публики было предостаточно. Выступать в торговых залах – это вам не фунт радиостудии «Маяк» и не метр камерного помещения. В торговых залах шумно, фонит, нет ни редактора, ни звукорежиссёра, а только одна оголённая объективность восприятия тебя разношёрстной аудиторией. Не завладел вниманием? Привет, пишите жалобные письма в Лигу Наций.
«А, будь что будет!» («Сплошное непотребство – это ваше бытие, определяемое сознанием!») – подумала я и, как в холодную воду, ринулась в первый абзац.
Уже после второго – в одном из торговых залов книжного магазина «Москва» переминалась с ноги на ногу тишина.
«Что-то не так! – носилось по окраинам коры головного мозга, пока я читала. – Наверное, с меня свалились штаны, поэтому они и молчат. Они просто в шоке!»
Тишина переминалась ещё пару секунд после финального «А я так закаляюсь, шоб вы все уже были здоровы!» — и… зал зааплодировал.
«Это мне?» – удивилась я. Больше вроде было некому. Я осмелилась осмотреться.
Женщина, стоящая в первом ряду у подиума, плакала.
– Не расстраивайтесь! – я попыталась успокоить её. – Мало ли на свете плохих писателей, так что теперь, из-за каждого рыдать?
– Я не расстраиваюсь! – всхлипнула она. – Я радуюсь! Мы с вами землячки. Я из Николаева. И я очень вами горжусь! – И протянула мне на подпись «Большую собаку».
Я хотела пошутить про Жмеринку или Бердичев, но дама была так искренна… «Из Николаева так из Николаева. Землячки так землячки!» – подумала я, вспомнив, как на Невском проспекте в Доме книги «Зингер» после встречи с читателями у меня взяли автограф:
– Напишите «Мише из Нью-Йорка от землячки». Он тоже одессит – он из Винницы и учился в Одесском медине, потому что из винницкого его выгнали за неуспеваемость, так он перевёлся в Одессу и сейчас, тридцать лет после, очень плакал над второй новеллой этой вашей «Большой собаки». Мы его понимаем, мы сами из Минска.
«Да к чёрту лысому эту врождённо-дефективную черту всех одесситов, перед которой снимают котелки даже великоросские шовинисты, – помнится, мелькнуло у меня, – планета такая маленькая, все одной атмосферой дышим!» И написала винницкому Мише из Нью-Йорка: «Нью-йоркскому одесситу украинского происхождения от землячки и однокашницы, русской москвички одесского пошиба Татьяны Соломатиной. Шоб вам ещё сто лет не лабали Шопена, Миша! И дайте спасибо вашим белорусским одесситам за мою сигнатуру».
Надеюсь, нью-йоркский одессит Миша винницкого урожая понял, что я пожелала ему долгих лет жизни, а сама я текстом автографа долго гордилась как натурально идиотским!
В одном же из торговых залов книжного магазина «Москва» мне тем временем ещё немного похлопали. Затем ещё задавали вопросов (знаю-знаю – «задавали вопросы»). Потом началась автограф-сессия, неожиданно (как для меня, так и для магазина) затянувшаяся. Потому что в «Москве» на Тверской оказалось очень много одесситов российского, украинского и – снова да – американского подданства. И каждый хотел поговорить и об Александровском проспекте, и об улице Ремесленной, и о том, как цветут каштаны на Приморском бульваре, и о крыше морвокзала, и о ресторане «Киев», и… И, поскольку книжный магазин «Москва» всё-таки не стол, накрытый в тени винограда где-то под Жеваховой горой, мы вынуждены были прекратить свои речи, потому что – регламент в спину. Хотя я, как обычно, никого не перебивала. Всё больше отмалчивалась и улыбалась.
Некоторое время спустя мой издатель, просмотрев ролик, вывешенный в Сети сотрудниками книжного магазина, сказал мне:
– Круто! Обалдеть. Ты – талант!
– Надо же! – скептически заметила я человеку, издавшему – на тот момент – уже пять книг моего авторства.
Пропустив мою реплику мимо ушей, издатель продолжил:
– Напиши книгу.
– Здравствуй, ёлка, новый год! (Оригинальная реплика не прошла цензуру. – Прим. авт.) Я только тем и занимаюсь, что пишу книгу. Как только заканчиваю предыдущую, так сразу же начинаю следующую. И каждый раз – книгу.
– Нет, напиши такую книгу. Вот как «Мой одесский язык».
– Отстань! – отмахнулась я.
В течение следующей пары недель на меня вывалилось невероятное количество давно, казалось, забытых старых одесских знакомых.
А через месяц издательство «Эксмо» отправило меня в поездку по Украине. В Киев и в… Одессу. Да ещё и поселило в гостиницу не какую-нибудь там, а в «Лондонскую». Londonskaya Hotel. Since 1827. Четыре «звезды». Под платанами внутреннего дворика ещё Пушкин Александр Сергеевич вполне мог себе позволить… На третьем этаже поселили. В полулюксе. Среди теней и духов. Мейерхольд, Ильинский, Высоцкий.
– Распишитесь, госпожа Соломатина, – ласково попросили девочки за регистрационной стойкой. – В вашем номере останавливался Леонид Утёсов.
«А, Утёсов! Он останавливался в моём номере!» Я была готова свалиться в обморок от избытка чувств-с, но менеджер родимого издательства напомнила, что у нас через пятнадцать минут первая деловая встреча.
Одесская программа, включавшая первоначально несколько интервью, запись передачи для местного телевидения и участие в книжной выставке-ярмарке «Зелёная волна», стала стихийно разрастаться. Незапланированные встречи перетекали в несанкционированные акции. Два рабочих дня переросли в три.
На «Зелёной волне» одесский писатель Валерий Смирнов вручил мне свою книгу «Крошка Цахес Бабель».
Разнообразные люди, которые, как выяснилось, «всегда знали», стали оставлять мне записки. Такого вот, в основном, содержания:
«Привет, Танюша!
Пишет тебе N. Привет тебе от NN.
Узнали, что твои книги продаются на «Зелёной волне», и специально приехали. Мы тебя помним.
Желаю дальнейших творческих успехов.
Оставь, пожалуйста, автограф.
Удачи!»
Прелесть конкретно этой записки (у N и NN, конечно же, есть имена) в том, что написана она была на обратной стороне криво ободранной бумажки с круглым штампом: «Балiнець Гульнар Кадержанiвна, фiзична особа-пiдприємник». Удивившись не столько тому, что, судя по бланку от ни в чём не повинной Гульнар, Одесса, как и прежде, – многонациональный город, сколько тому – отчего это ладно бы N, с которой меня никогда ничего особо не связывало, но вот NN, терпеть меня не могшая, потому как сто лет назад я, помнится, пожертвовала в пользу её одинокого сердца своего «некуда приткнуть» ухажёра, пришла со мной повидаться?.. И почему это не на «Зелёную волну», буквально за углом, на Дерибасовской, а в гостиницу?.. Неподвластны логике одесситы. Особенно одесситки.