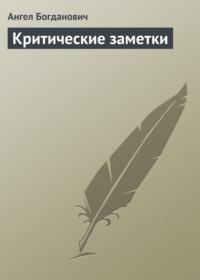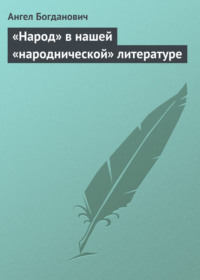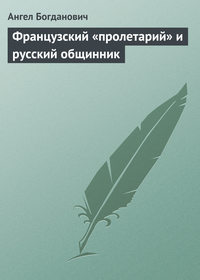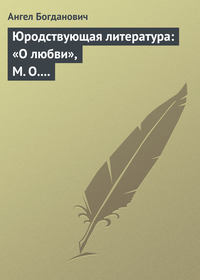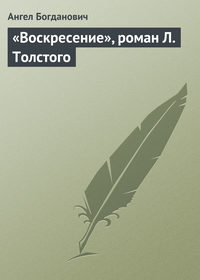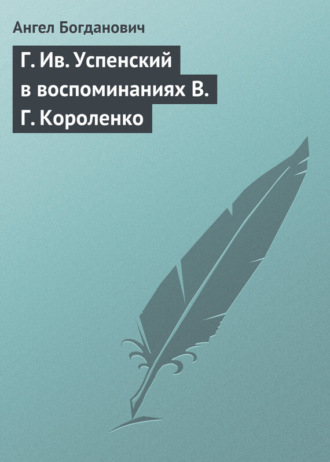 полная версия
полная версияГ. Ив. Успенский в воспоминаниях В. Г. Короленко
Говоря "почти", мы въ сущности совершаемъ нѣкую несправедливость, по отношенію къ Успенскому, безсознательно дѣлая уступку мнѣнію, будто Успенскій не все сказалъ, не все далъ, что могъ бы сказать. Это мнѣніе раздѣляютъ многіе, напр:, тотъ же Короленко, такъ глубоко заглянувшій въ Успенскаго, какъ никто, – исключая развѣ Н. К. Михайловскаго, – говоритъ, что "Успенскій не сказался въ своихъ произведеніяхъ со всею силою своей необыкновенной личности, и своего таланта. Чистый образъ, тщательно выношенный въ душѣ и выплавленный изъ однороднаго художественнаго матеріала, вообще легче привлекаетъ вниманіе и живетъ дольше, чѣмъ та смѣсь образа и публицистики, посредствомъ которой работалъ Успенскій". Намъ кажется, въ этихъ словахъ есть доля невѣрной оцѣнки Успенскаго, къ которому не примѣнимы никакія общія мѣрки. Это вѣрно что онъ не далъ "чистаго образа" и въ его творчествѣ преобладаетъ "смѣсь образа и публицистики". Но ее такъ и надо оцѣнивать какъ преобладающую особенность Успенскаго-писателя, и тогда мы должны признать, что эта "смѣсь", въ родѣ Ивана Босыхъ изъ "Власти земли", Порфирыча изъ "Нравовъ Растеряевской улицы" или Мымрецова – геніальные образы, наряду съ которыми можно поставить Каратаева изъ "Войны и мира" да типы, встрѣчающіеся у Гоголя и Салтыкова. Затѣмъ, въ его мелкихъ по объему произведеніяхъ, каковы разсказы, собранные имъ подъ общимъ заглавіемъ "Растеряевскіе типы и сцены", "Столичная бѣднота", "Мелочи" и другіе, – публицистики нѣтъ совсѣмъ, или если угодно – она сказывается мѣстами въ субъективизмѣ автора, въ его нескрываемой подчасъ симпатіи или антипатіи къ герою. Такіе чудные разсказы, какъ "Нужда пѣсенки поетъ", "Задача", "Про одну старуху", "Будка", "Дворникъ" и масса другихъ того же рода – останутся въ русской литературѣ прекрасными образцами творчества, надъ которыми время безсильно.
Мы думаемъ, поэтому, что въ трехъ компактныхъ томахъ, оставленныхъ намъ Успенскимъ, онъ сказался весь, безъ остатка, такъ, какъ немногіе изъ нашихъ великихъ писателей. Его огромный художественный талантъ развернулся въ его произведеніяхъ во весь ростъ, а его душа, скорбная, ищущая, не мирящаяся ни съ какой неправдой, вѣчно напряженная въ неустанныхъ поискахъ справедливости, гармоніи человѣческихъ отношеній – вылилась съ такой полнотой, яркостью и стремительностью, что я не знаю, чего еще могли бы мы потребовать отъ Успенскаго, для выясненія его, какъ писателя и человѣка. Если бы не роковая болѣзнь, прекратившая его работу въ годы полной физической и умственной бодрости, мы, вѣроятно, получили бы еще рядъ чудныхъ разсказовъ и очерковъ, представляющихъ ту же "смѣсь образа и публицистики", что и раньше, и содержаніемъ своимъ они уяснили бы намъ многое, что мы пережили за эти десять послѣднихъ мучительныхъ лѣтъ болѣзни Успенскаго. Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что крупный переворотъ, совершившійся за это время въ русскомъ обществѣ, не избѣгъ бы вниманія такого чуткаго и глубокаго наблюдателя, какимъ является Успенскій-художникъ. И кто знаетъ, можетъ быть, многое получило бы иное направленіе подъ вліяніемъ его мощнаго таланта, такъ глубоко умѣвшаго "потрясать" сердца… Но все это не прибавило бы ни одной лишней черты къ его характеристикѣ, не увеличило бы и не умалило его, какъ писателя, – это явилось бы только приложеніемъ все тѣхъ же силъ, которыя съ исчерпывающей полнотой вылились въ его произведеніяхъ.
Думаемъ, что въ такомъ мнѣніи нѣтъ ничего, умаляющаго значенія Успенскаго въ томъ видѣ, какъ мы его знаемъ теперь, и даже напротивъ. Мнѣ лично всегда нѣсколько обидно за любимаго писателя, когда говорятъ, что онъ не далъ всего, – потому что не далъ того-то и того-то, – не весь проявился въ своихъ произведеніяхъ, – и обиднѣе всего такое мнѣніе именно объ Успенскомъ, который далъ больше, чѣмъ можно бы ожидать отъ такой нервной, напряженно-страстной писательской организаціи. Объемъ его работы вызываетъ, по истинѣ, удивленіе: свыше 8.000 убористыхъ страницъ, до трехсотъ печатныхъ листовъ, – и какихъ листовъ! – на протяженіи менѣе, чѣмъ тридцати лѣтъ! Мало писателей, которые могли бы гордиться такой продуктивностью, и при томъ такой значительной по содержанію, вліянію и силѣ впечатлѣнія. Что больше могли бы мы требовать отъ Успенскаго?
Какъ писатель, онъ представляется намъ вполнѣ законченнымъ, завершеннымъ, оригинальнымъ явленіемъ русской пореформенной жизни, которую онъ отразилъ въ своемъ творчествѣ съ необычайной полнотой. Всѣ изгибы этой жизни, ея бурныя теченія и широкіе разливы, мели и бездонные яры мы находимъ въ произведеніяхъ его мысли, которая, по удивительно вѣрному слову Короленки, "шла какъ рѣка, которая то течетъ на поверхности, то исчезаетъ подъ землей, чтобы черезъ нѣкоторое время опять сверкнуть уже въ другомъ мѣстѣ", вынося наверхъ тѣ чудные перлы, которыми переполнена сокровищница, именуемая "Сочиненіями Глѣба Успенскаго".
Іюль 1902 г.