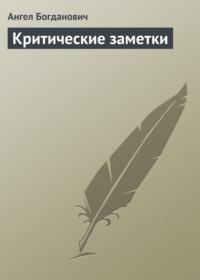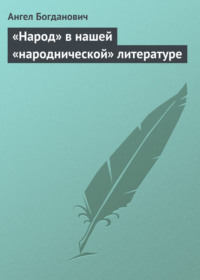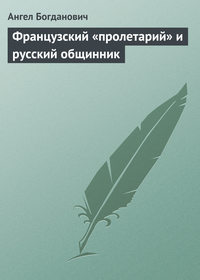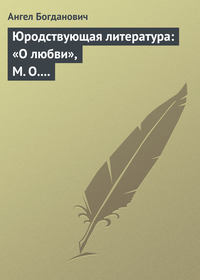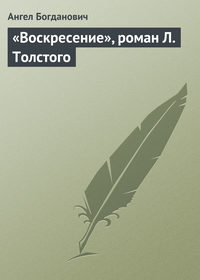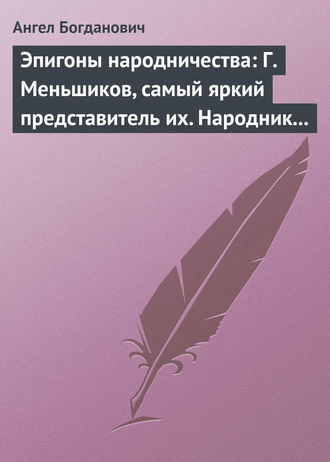 полная версия
полная версияЭпигоны народничества: Г. Меньшиков, самый яркий представитель их. Народник старого типа: Н. Е. Петропавловский-Каронин
Только-что вышедшіе два тома произведеній Каронина,– второе изданіе, – въ которые вошло все написанное этимъ виднымъ представителемъ народнической литературы, даютъ богатый матеріалъ для характеристики лучшихъ сторонъ этого направленія. Николай Елпидифоровичъ Петропавловскій, извѣстный преимущественно подъ псевдонимомъ «Каронинъ», представлялъ рѣдкій даже въ то время типъ по цѣльности личности. Его жизнь, убѣжденія и произведенія такъ слиты воедино, что ихъ нельзя разсматривать въ отдѣльности. Сынъ священника, онъ пережилъ всѣ деревенскія невзгоды, выносилъ въ душѣ деревенскія впечатлѣнія, которыя потомъ въ періодъ умственнаго роста, когда слагаются у человѣка взгляды и убѣжденія, связалъ въ цѣльную систему служенія народу.
Долгіе годы заключенія, потомъ ссылки, затѣмъ необезпеченнаго житія провинціальнаго литератора – были постоянной провѣркой выстраданныхъ убѣжденій, вѣчно-мучительнымъ исканіемъ истины, тревожной борьбой сомнѣній и вѣры въ народную правду. Приспособляться къ жизни и обстоятельствамъ, сообразно имъ усѣкать во взглядахъ слишкомъ колючіе углы – онъ органически не умѣлъ и не могъ. Чрезвычайно добрый по натурѣ, истинно «золотое сердце», онъ былъ упрямъ и суровъ во всемъ, что касалось его святая святыхъ – безпредѣльной, доходящей до трогательной нѣжности, любви къ деревнѣ, къ мужику, котораго онъ хорошо зналъ и умѣлъ изображать, когда художникъ не заглушался въ немъ проповѣдникомъ. Кто зналъ его лично, никогда не забудетъ его оригинальной, торопливой, подчасъ не совсѣмъ складной, но проникнутой страстностью рѣчи, когда дѣло касалось крестьянскаго міра, крестьянской души и всего мірского уклада. Все, что онъ писалъ, это дѣйствительно вѣра сердца, выношенная и выстраданная, какъ мать вынашиваетъ дитя, которое любитъ съ слѣпой страстью, каковы бы ни были его недостатки, и, пожалуй, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ этихъ недостатковъ больше. Лично до поразительности незлобивый и кроткій, онъ отстаивалъ своего мужика съ свирѣпой горячностью, хотя никогда не закрывалъ глазъ на его отрицательныя стороны, умѣя подмѣчать ихъ и изобразить съ рѣдкимъ юморомъ.
Это чувство вѣчнаго тяготѣнія къ мужику, къ деревнѣ не было въ немъ чѣмъ-то надуманнымъ, головнымъ, изъ книги вычитаннымъ, – оно органически проникало его. Въ самой грубоватости, съ которой онъ часто выражаетъ его, чувствуется глубина этой любви, которую Каронинъ какъ бы стыдится выносить наружу, на показъ другимъ.
Въ народнической литературѣ онъ занимаетъ по праву мѣсто между Успенскимъ и г. Златовратскимъ. По изображенію деревенской жизни Каронинъ приближается къ первому, уступая ему въ яркости и глубинѣ художественнаго творчества. Отъ г. Златовратскаго его выгодно отличаетъ простота языка, отсутствіе сладкой елейности и напыщенности. Прекрасный народный языкъ его деревенскихъ очерковъ доставляетъ истинное художественное удовольствіе своей чистотой и образностью, и въ этомъ отношеніи только Успенскій выше Каронина. Конечно, мы далеки отъ того, чтобы сравнивать его съ Успенскимъ вообще, такъ какъ ему недостаетъ широты наблюденій послѣдняго, его захватывающихъ обобщеній, которыя чужды Каронину. Рамки его очерковъ всегда опредѣленны и узки, что дѣлаетъ его наблюденія и характеристики отрывочными.
У Каронина вы не найдете такой эпической фигуры, какъ Иванъ Босыхъ, но на каждомъ шагу попадаются такіе типичные представители мужицкой среды, какъ, напр., Василій Чилигинъ въ одномъ изъ лучшихъ очерковъ «Праздничныя размышленія», на которомъ мы и остановимся. Этотъ очеркъ очень характеренъ для манеры Каронина-художника. Въ то же время въ немъ затронуты и тѣ патріархальныя стороны деревенской жизни, которыя будто бы такъ выгодно отличали ее прежде, какъ думаютъ гг. Меньшиковы, врядъ ли заглядывавшіе когда-либо въ деревню, насколько можно судить по ихъ писаніямъ, сочиняемымъ больше отъ ума, чѣмъ на основаніи реальныхъ знаній.
Описавъ сцену между Васильемъ Чилигинымъ и его отцомъ, въ которой сынъ побилъ отца, а отецъ прокусилъ ему икру, Каронинъ тутъ же поясняетъ ее, чтобы у читателя не осталось никакихъ сомнѣній насчетъ возможности подобныхъ родственныхъ чувствъ и отношеній. «Въ описываемомъ округѣ семейная жизнь вообще устраивалась по этому образцу: братъ корилъ сестру за ея безполезность и старался ее спихнуть, мужъ сживалъ со свѣта больную жену. Это была страшная, но неизбѣжная логика, и другой не можетъ быть тамъ, гдѣ египетская работа доставляетъ лишь сухую корку и медленно вгоняетъ работника въ гробъ. Тотъ идеалъ, который мы привыкли пріурочивать къ деревнѣ, обладаетъ свойствомъ внушать нервную дрожь всякому, кто никогда не видалъ ея. Законъ, право, справедливость принимаютъ здѣсь до того поразительную форму, что съ перваго раза ничего не понимаешь. Законъ представляется въ видѣ здоровеннаго Васьки; право переходитъ въ формулу: „долженъ честь знать“; справедливость вдругъ превращается въ похлебку, а орудіями осуществленія этихъ понятій являются – чугунъ, кулакъ, зубы и ногти».
Читатели, конечно, помнятъ еще тѣ негодующіе вопли и тьму ругательствъ, которыми народники встрѣтили разсказъ г. Чехова «Мужики». Чехова укоряли въ нарочитомъ оклеветаніи деревни, въ грубомъ непониманіи народной жизни, въ злобномъ отношеніи къ народу, даже въ «марксизмѣ». Всѣхъ «несогласно мыслящихъ», кто осмѣливался признать разсказъ г. Чехова произведеніемъ художественнымъ и выдающимся по силѣ и яркости, народническая критика величала «обнаженными (?), глупцами» и т. п. Словомъ, мы не помнимъ ни одного произведенія, которое вызвало бы со стороны народнической критики, – такую кучу грязи по адресу Чехова и его злополучныхъ поклонниковъ. А между тѣмъ, въ его разсказѣ не было ничего новаго, ничего, что еще задолго до него не было бы сказано именно народниками-беллетристами, въ родѣ Каронина. Въдвухъ огромныхъ томахъ его очерковъ вы найдете такіе перлы изъ народной жизни, предъ которыми разсказъ Чехова просто блѣдная картинка.
Взятый нами очеркъ вовсе не исключеніе, онъ только лучше другихъ написанъ, почему мы его и выбрали. Далѣе Каронинъ описываетъ отношеніе Чилигина къ женѣ, которую въ деревнѣ называли «безживотной» отъ вѣчныхъ побоевъ мужа. За остальными подвигами героя мы слѣдить не станемъ, пришлось бы перепечатать весь разсказъ, что намъ представляется липшимъ.
Въ цѣлой серіи разсказовъ про парашкинцевъ представленъ съ поразительнымъ реализмомъ необъятный міръ тьмы, невѣжества, животнаго прозябанія. Чувство жалости, охватывающее васъ вначалѣ, смѣняется ужасомъ при мысли, какъ могутъ существовать эти милліоны безъ просвѣта и радости? Авторъ не даетъ пощады читателю и на каждомъ шагу подчеркиваетъ рисуемыя имъ картинки, обобщая ихъ замѣчаніями, что такъ оно есть, такъ было и нечего ждать лучшаго. Въ разсказѣ «Братья», напр., онъ описываетъ, какъ «міръ» за нѣсколько ведеръ водки сноситъ избу безногаго солдата, потому что мѣсто понадобилось кулаку для своей постройки.
И опять авторъ, чтобы не оставить въ читателѣ сомнѣній насчетъ поведенія «міра», дѣлаетъ общее замѣчаніе, безотрадное по своей ясности: «Ни одинъ изъ березовцевъ не подумалъ въ этотъ день, зачѣмъ у нихъ существовалъ міръ. Чтобы притѣснять безпомощныхъ? Но въ то же время никто не сомнѣвался въ его дѣйствительномъ существованіи. О немъ и его порядкахъ не думали, но чувствовали его. Какимъ онъ былъ раньше, этотъ пресловутый міръ, такимъ и остался. Служили ему и жили въ немъ безъ разсужденій, только эта служба походила на ту, которую исполняютъ бонзы. Объ обновленіи и перестройкѣ этого древняго храма никому и въ голову не приходило. Не придетъ ли день, когда его снесутъ такъ же, какъ снесли избу солдата съ деревянной ногой, Лапина?»
Неужели эти архиеретическія мысли высказываетъ народникъ, а не заядлый марксистъ? Въ томъ-то и дѣло, что сами народники накопили массу матеріала, которымъ злые марксисты только воспользовались для выводовъ. И странно было бы не воспользоваться, когда эти выводы торчатъ, какъ шесты, изъ всей народнической литературы. Если, тѣмъ не менѣе, сами народники приходили къ выводамъ какъ разъ обратнаго свойства, то въ этомъ повинна ихъ идеализація народной жизни. «Знаете ли,– спрашиваетъ Грубовъ въ „Борской колоніи“,– какая разница между нами и ими (мужиками)? Это то, что мы живемъ чувствомъ пріятнаго и прекраснаго, мужикъ же – чувствомъ должнаго и неизбѣжнаго. Мы дѣлаемъ то, что намъ нравится, мужикъ – то, что должно дѣлать… Когда жизнь не даетъ намъ того, чего мы желаемъ, мы считаемъ ее неудавшеюся; мужикъ же считаетъ скверною ту жизнь, которая дала ему одни только грѣхи. Мы страдаемъ отъ того, что не удовлетворили своихъ желаній, мужикъ же отъ того, что не исполнилъ какой-то высшей воли, нагрѣшилъ» (Т. II, стр. 98). Такая идеализація мужика заставляла смотрѣть на его недостатки, какъ на нѣчто наносное, временное, подъ чѣмъ слѣдуетъ искать вѣчно чистаго и прекраснаго.
То же самое происходитъ и съ Каронинымъ. Какъ бытописатель деревни, онъ удивляетъ безстрашіемъ, съ какимъ раскрываетъ ея язвы, смѣлостью, съ какою дѣлаетъ заключенія и высказываетъ мрачныя предсказанія, безотраднымъ скептицизмомъ, съ какимъ относится къ «пресловутому міру». Онъ ясно видитъ, почему все лучшее и сильное уходитъ изъ деревни, понимаетъ, что здѣсь этимъ сильнымъ только одинъ исходъ – стать кулакомъ и при помощи міра душить безпомощныхъ, если не хочешь, чтобы тебя задушили. Въ длинномъ разсказѣ «Снизу вверхъ» крестьянскій парень Михайло уходитъ изъ деревни, откуда его выпираетъ общій гнетъ, голодъ, страхъ за свою шкуру и прочія прелести патріархальной жизни на лонѣ природы. Михайло является въ разсказѣ представителемъ новаго поколѣнія, которое не такъ уже привержено традиціямъ, для котораго міръ не есть уже всепокоряющее божество. Молодежь эта разсуждаетъ, она пытливо ищетъ, въ чемъ же сила міра, въ чемъ его благодѣтельное вліяніе, ради чего должно смиряться и подставлять спину, если ни защиты, ни пользы отъ міра она не видитъ. Они пристаютъ къ древнимъ старцамъ съ вопросами, какъ же прежде было? Но ничего, кромѣ непонятныхъ словъ «побожески! стой! крѣпись! Согласіе было! Коли притѣсненіе – мы молчимъ!» – не получаютъ. Михайло претерпѣваетъ въ городѣ тысячи мытарствъ, которыми онъ обязанъ своей непроходимой темнотѣ и дикости, вынесенными имъ «съ лона природы». Наконецъ, онъ выбивается въ люди, становится рабочимъ на фабрикѣ, даже машинистомъ, и тогда мысль о покинутомъ «мірѣ», гдѣ «ихъ вѣдь и теперь сѣкутъ», начинаетъ жечь его сердце, обливающееся кровью отъ этихъ воспоминаній. Но идти назадъ, «внизъ» онъ не думаетъ, понимая, что въ результатѣ только и самъ пріобщится къ числу «сѣкомыхъ».
Кажется, ясно,– ждать спасенія надо именно въ стремленіяхъ «снизу вверхъ». Но такъ только кажется, потому что лишь только заходитъ рѣчь объ интеллигенціи, Каронинъ сразу преображается и всѣми силами толкаетъ ее «книзу», гдѣ только она и можетъ найти разрѣшеніе всѣхъ своихъ вопросовъ, мукъ и сомнѣній. Почти весь второй томъ занятъ разсказами объ этихъ страждущихъ душахъ, града взыскующихъ. Теперь, когда мы имѣемъ передъ собою въ этихъ двухъ томахъ итогъ думъ, наблюденій, выводовъ и стремленій автора, намъ ясно видны противорѣчія, въ которыя онъ впадаетъ. Основное противорѣчіе заключается въ изображеніи ничтожности современнаго деревенскаго уклада, который, по его же словамъ, уже «не прежній», и въ то же время въ указаніи на этотъ «міръ», какъ на идеалъ, къ которому должна стремиться интеллигенція. Современный укладъ деревни – «древній, опустѣвшій храмъ», въ которомъ только и могутъ служить «бонзы», безъ разсужденія, безъ критики, безъ мысли о задачахъ, которыя долженъ былъ нѣкогда преслѣдовать и осуществлять этотъ храмъ. Это съ одной стороны, съ другой же – интеллигенціи рекомендуется занять роль именно бонзы при этомъ храмѣ.
Въ разсказѣ «Борская колонія» представлена попытка вступить въ союзъ съ Васькой Чилигинымъ, чтобы на артельныхъ началахъ проводить въ деревенскій міръ идею жизни «по-божецки… сообча… стой и крѣпись». Дѣвушка, съ которой будущій колонистъ ѣдетъ въ деревню, пугается при видѣ одного пайщика, который, оказывается, наканунѣ подрался и весь въ крови. Спутникъ ея успокаиваетъ: «Выпро него спрашиваете? Это Ефремъ, нашъ пайщикъ. Если хотите знать, онъ буянъ, въ пьяномъ видѣ бьетъ жену кирпичами, за что его сынъ сажаетъ въ сарай… дерется, кромѣ того, съ кѣмъ попало, но вамъ бояться его нечего»… Понятно, чѣмъ должна кончиться такая «артель», попытка оживить въ мірѣ Чилигиныхъ идею стараго «міра», о которой Чилигины и Ефремы не сохранили никакихъ воспоминаній, а современная жизнь бьетъ ихъ совершенно иными требованіями и запросами. Чилигины остаются тѣмъ, что они есть, а піонеры интеллигенціи никакъ не могутъ превратиться просто въ бонзъ и бѣгутъ, бѣгутъ безъ оглядки, претерпѣвъ тысячи нравственныхъ и матеріальныхъ тяжкихъ ударовъ.
Правда, они уходятъ съ твердой увѣренностью «вернуться назадъ во что бы то ни стало».
Этой увѣренности мы не раздѣляемъ теперь, по крайней мѣрѣ, не думаемъ, чтобы этотъ путь, привелъ интеллигенцію къ твердой осѣдлости въ деревнѣ. Что между народомъ и интеллигенціей нѣтъ той пропасти, на которую указываютъ гг. Меньшиковы, Энгельгардты и ихъ присные,– это несомнѣнно. Интеллигенція составляетъ неотъемлемую часть народа, плоть отъ плоти, кость отъ костей его, и для взаимнаго пониманія и сближенія вовсе не нужны маскарадные костюмы, опрощеніе, вовсе не требуется «онародиться», «расплыться» и тому подобное. Интеллигенція должна быть тѣмъ, что она есть,– представителемъ духовной жизни народа въ глубокомъ значеніи этого слова, его мыслью и духомъ. Только оставаясь сама собой, она становится ему понятной и близкой, и такъ должна смотрѣть на себя, никогда не выдѣляя себя и не противопоставляя себя народу. Величайшій грѣхъ, какой могла бы совершить интеллигенція, было бы отреченіе отъ своей роли и значенія, смиренное уничиженіе и самопрезрѣніе. Именно тогда она и поступила бы, какъ «рабъ лукавый», расточившій свои таланты безъ всякой пользы и смысла. Къ счастью, это и невозможно.
Фактъ, однако, остается фактомъ, что теперь между интеллигенціей и народомъ нѣтъ того единенія и близости, какія возможны и желательны для обѣихъ сторонъ. Но винить интеллигенцію или народъ было бы смѣшно, такъ какъ никто не виноватъ въ этомъ. Историческія условія, приведшія къ этой отчужденности, еще не исчезли вполнѣ, но несомнѣнно, что съ теченіемъ времени они теряютъ свою силу, создаются новыя условія, неудержимо влекущія къ тому, чтобы естественнымъ образомъ сошлись эти оба теченія – изъ народа къ интеллигенціи, т. е. къ свѣту знанія и цивилизаціи, и изъ интеллигенціи къ народу, т. е. къ своему единственному прочному устою. Но, мы думаемъ, сліяніе обоихъ теченій врядъ ля произойдетъ въ деревнѣ, по программѣ героя Каронина. На фонѣ разлагающейся деревни идиллія Каронина производитъ слишкомъ не отвѣчающее дѣйствительности впечатлѣніе, и, не говоря уже о «независящихъ обстоятельствахъ», тоже имѣющихъ свою прелесть,– не видно пока данныхъ для идилліи Каронина.
Возможно, что и самъ онъ еще во многомъ измѣнилъ бы эту программу. Онъ умеръ 88 лѣтъ, и при его правдивости, чуткости къ жизни и наблюдательности, онъ едва ли остался бы такимъ, какимъ мы знаемъ его теперь въ его сочиненіяхъ. Будучи народникомъ въ лучшемъ значеніи этого слова, онъ былъ далекъ отъ сектантства, чуждъ тѣхъ метаморфозъ, которыя начали совершаться въ народничествѣ эпигоновъ еще при немъ, и меньше всего могъ проникнуться ихъ буржуазными мечтаніями о сладости существованія на лонѣ природы въ своемъ уголкѣ. Столь кажущаяся высокой идея «жить трудами рукъ своихъ» ни мало его не соблазняла, и въ «Борской колоніи» онъ очень вѣрно и сильно вскрываетъ ея низменное содержаніе. «Разумѣется,– говоритъ тотъ же Грубовъ,– очень хорошо жить трудами рукъ своихъ, благородно добывать хлѣбъ прямо изъ земли. Притомъ, это очень здорово и не лишено поэзіи. Только на первыхъ порахъ немного скучно. Отчего бы это? Можетъ быть, оттого, что въ этомъ раю всѣ мысли сосредоточены на себѣ: на своемъ тѣлѣ, на своей душѣ, на своемъ благородствѣ, на своемъ спасеніи,– все только на своемъ вертится мысль… Увлечь человѣка можно всѣмъ, даже безумной мечтой, лишь бы въ ней заключалось величіе, самопожертвованіе, новизна, подвигъ ради людей, но увлечь его обыденнымъ соромъ – никогда! И поднять также нельзя» (т. II, стр. 76).
Сравнивая этотъ высокій идеалъ Каронина съ цвѣточнымъ идеаломъ г. Меньшикова, лучше всего уясняешь, какая пропасть раздѣляетъ эпигоновъ народничества отъ ихъ предшественниковъ. Для г. Меньшикова всѣ его «думы о счастьѣ» просто игра словами и понятіями, въ безрезультатности которой онъ и самъ вполнѣ увѣренъ,– и во всякомъ случаѣ не увлечь ему другихъ этимъ «копаніемъ въ сору». Для Каронина его думы и убѣжденія – это дѣло всей жизни, слово – орудіе борьбы за счастье другихъ. Потому что для него «слово имѣетъ свое сердце и это сердце есть стремленіе къ истинѣ и борьба за все человѣчное» (т. II, «На границѣ человѣка»),– и этому слову онъ не измѣнялъ никогда, всею жизнью запечатлѣвъ свою преданность и любовь ко «всему человѣчному».
Ноябрь 1896 г.Годы перелома (1895–1906). Сборникъ критическихъ статей.Книгоиздательство «Міръ Божій», Спб., 1908