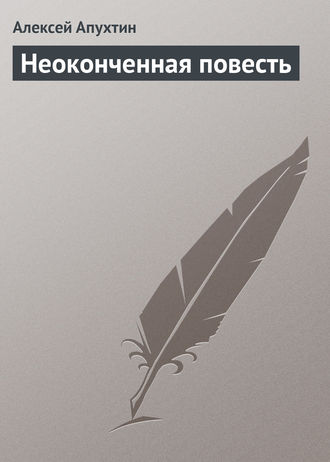 полная версия
полная версияПолная версия
Неоконченная повесть
– Да, граф, прочел; но неужели эта глупость могла вас рассердить или огорчить?
– Действительно, она меня более удивила, чем рассердила. Уж если они хотели про меня написать какую-нибудь гадость, то могли бы выдумать что-нибудь более правдоподобное. В Нижнем я не только не мог ничего хапать, но в три года, что я там был губернатором, я истратил около ста тысяч своих на балы и обеды, потому что жена моя хотела непременно перещеголять губернскую предводительшу. А предводителем был Пронин, известный миллионер. Но дело не в том, а я хочу на эту статью написать возражение. Как вы посоветуете мне это сделать?
– Я бы вам посоветовал вовсе не отвечать. Да и где же можно печатать возражение? В Лондоне печатать не захотят, а у нас о «Колоколе» запрещено даже упоминать в печати. Да не стоит и отвечать на такую глупость, которой не только никто не поверит, но и на которую никто даже не обратит внимания…
– О, как вы ошибаетесь в этом! как видно, что вы неопытны и юны! Начать с того, что многие поверят. Есть люди, которые верят всему гадкому. А другие хотя и не поверят, но все-таки будут меня считать как бы опозоренным. Люди, ко мне расположенные, ce qu'on appelle les amis[157], – будут меня защищать, но все-таки не удержатся, чтобы не рассказать про этот пасквиль тем, которые еще не знают. Поверьте, mon cher, что если бы мой тезка дон Базилио[158] пожил в Петербурге, он бы еще более убедился в могуществе клеветы…
После спаржи, которою граф остался недоволен, так как она была слишком разварена, разговор его принял еще более меланхолический характер.
– В странное время живем мы, mon cher. Быть министром теперь то же, что лишиться всех прав… В старину, когда я начал служить, у нас была известная система. Я вовсе не сторонник этой системы, но, по крайней мере, мы – слуги правительства – знали, как нам поступать, и всегда могли рассчитывать на поддержку. Теперь нас ругают со всех сторон, а поддержки у нас никакой, и мы даже не знаем, чего от нас хотят. Вот слободский предводитель подал по крестьянской реформе проект, в котором пошел дальше той точки, на которой теперь стоит правительство… И что же? Его сослали административным порядком. Скажу вам про себя. Я нисколько не ретроград и рад сочувствовать всяким новым мерам, но дайте мне право рассматривать эти меры и не заставляйте меня бежать слепо за тем, кто громче кричит. А тут еще кругом какие-то подпольные интриги… Я хотел взять себе в товарищи Дольского. Вы его знаете, это – человек умный, дельный и проникнутый самыми современными идеями; но против него начался целый крестовый поход, и эта старая карга, княгиня Марья Захаровна – n'en deplaise a ma femme[159], которая ее обожает, – подсунула мне Сергея Павловича Висягина – известного ретрограда. Ну, чем же я виноват?
– Почему вы называете Сергея Павловича ретроградом? Он теперь только и бредит реформами и на днях рассказывал одному губернатору, что в молодости был совсем красный…
– Ну, знаете, теперь не разберешь: кто красный, кто белый, кто консерватор и кто либерал. Я знаю только одно, что пора мне убираться подобру-поздорову, а то, пожалуй, дождешься вот этого…
И граф сделал рукой выразительный жест, изображающий, как выталкивают за дверь.
Когда подали кофе, граф пожелал выпить рюмку fine champagne[160]. Дюкро сам принес бутылку, всю покрытую песком и пылью, объясняя, что этот коньяк такого времени, когда даже название fine champagne не существовало. Выпив две рюмки этого необыкновенного коньяку, граф не то чтобы опьянел, но как-то размяк.
– Вы не поверите, mon cher, – говорил он, закуривая огромную сигару, – как мне приятно вот так пообедать с вами и поговорить на свободе. Ведь я совсем не рожден быть министром. Все эти почести я никогда не ставил в грош… Моим идеалом всегда была тихая, беззаботная жизнь, хорошая книга, хороший обед, несколько приятелей, с которыми можно поболтать приятно, – de temps en temps le sourire d'une jolie femme…[161] Вот и все. И не только ничего этого у меня нет, но я не имею даже того, что имеет каждый столоначальник, то есть спокойного домашнего очага… Я не могу пожаловаться на свою жену, это во многих отношениях достойная женщина, но у нее столько причуд, столько капризов, такие странные мысли… Образчик ее воззрений вы слышали сегодня утром, а меня она каждый день угощает чем-нибудь в этом роде. Но это бы еще куда ни шло, а главное – ce qui me rend la vie dure[162],– это ее невыносимый деспотизм. Ведь она следит за каждым моим шагом, она…
– Мне кажется, граф, что вы преувеличиваете, – остановил его Горич, боявшийся, что граф, под влиянием вина, пустится в признания, в которых потом сам раскается. – Мы говорили с вами о Висягине…
– Нет, позвольте, mon cher, я не преувеличиваю нисколько, я даже многого не хочу говорить. Но чтоб вы видели, в каком я положении, расскажу вам, так и быть, один факт. Вот мы с вами обедали у Дюкро, а где я сегодня обедал официально, как вы думаете? В Царском Селе.
– Отчего в Царском Селе?
– Оттого, что скажи я, что обедаю у Дюкро, особенно с вами, она ни за что бы меня не пустила, и я должен был ехать в своей карете сначала на царскосельскую машину[163], а оттуда в извозчичьей карете сюда. Ну, разве это не унизительно?
– Право, граф, вы смотрите в увеличительное стекло. Конечно, графине, может быть, приятнее, что вы в Царском у вашего племянника…
– Как, у Алеши? Оборони бог! К Алеше она бы пустила меня еще менее. Я должен был ей сказать, что еду к Петру Петровичу. Вы знаете, что Петр Петрович вышел в отставку и будирует правительство. В старину les mecontents[164] поселялись обыкновенно в Москве, где представляли известную силу, имели prestige[165]. Но теперь времена не те, да и состояние у него не такое, чтобы можно было faire figure[166] в Москве. Там для этого им большое состояние нужно или разве уж такие заслуги, как у Ермолова…[167] Вот Петр Петрович переселился в Царское Село, будирует оттуда и составляет оппозицию.
– Но отчего же графиня одобряет ваши поездки к Петру Петровичу? Сколько я знаю, у нее воззрения крайне консервативные и не допускают никакой оппозиции…
– Вот этого, mon cher, я и сам понять не могу. Назвал кто-то Петра Петровича: le venerable exile[168] – с тех пор это и пошло в ход. А какой же он exile, когда каждую субботу ездит в Петербург и обедает в Английском клубе? Все к нему ездят в Царское на поклонение и, как говорит моя супруга: «c'est bien vu dans le monde»[169]. А кем это – bien vu, почему bien vu, – кто их разберет.
– Чем же занимается Петр Петрович в Царском?
– Он пишет мемуары, и в этом – entre nous soit dit – весь секрет его успеха. Всякий думает: «а ну, как он отшлепает меня в своих мемуарах?» – и спешит задобрить его на всякий случай. А Петр Петрович, когда захочет отшлепать, сумеет это сделать, да и вообще умеет заставить почитать себя. В клубе ему теперь такое почтение оказывают, что вы себе представить не можете. У нас все так. Григорий Иваныч в таком же положении, как и он: также вышел в отставку, но живет себе тихо и скромно, и никто на него внимания не обращает. А Петр Петрович объявил, что он – оппозиция, и из него героя сделали. Но я вас спрашиваю: какая же это оппозиция, когда он преисправно получает от правительства двенадцать тысяч в год?
Граф выпил еще одну «последнюю» рюмку и опять заговорил о своей супруге.
– Знаете, mon cher, – система графини Олимпиады Михайловны самая ложная. Когда за вами такой бдительный надзор, всегда хочется его обмануть. Мне всего приятнее сидеть здесь именно оттого, что она считает меня в Царском. Если бы не мои лета и положение, я бы даже предложил вам поехать к какой-нибудь кокотке. Вот до чего может довести ее деспотизм. Поверите ли, иногда этот гнет доводит меня до таких мыслей, что потом мне самому делается страшно. Граф оглянулся на дверь и произнес вполголоса:
– Il y a des moments, ou je commence a comprendre les revolutions![170]
Потом граф начал рассказывать разные любовные похождения своих молодых лет. На камине раздался бой Часов.
– Сколько бьет, mon cher? Восемь?
– Нет, граф, уже десять.
– Как! неужели десять? Позвоните, mon cher. Абрашка, давай счет – и как можно скорее.
– Отчего вы так заторопились, граф?
– Как мне не торопиться? Вы забываете, что я должен ехать на царскосельский вокзал. Поезд приходит в одиннадцать часов, а карета моя приедет раньше, следовательно, я должен приехать еще раньше, потом вмешаться в толпу и идти как будто из Царского. Dieu, quel ennui![171]
Горичу сделалось и смешно, и жалко. Он предложил графу проводить его на вокзал.
– Как это мило, что вы меня не покинули! – говорил граф, брезгливо усаживаясь в грязную, оборванную четырехместную карету, – будьте до конца свидетелем моего печального или, если хотите, смешного положения. Это мне напоминает какие-то стихи, – кажется, Пушкина:
Все это было бы смешно,Когда бы не было так грустно…[172]Извозчичьи лошади, несмотря на понукания кучера, ехали почти шагом.
– Боже мой! – волновался граф. – Мы никогда не доедем. Вот увидите, моя карета приедет раньше, и при входе я буду встречен моим глупым Иваном. Cela sera du propre![173] Ну, да и карета хороша. Это какой-то гроб, а вовсе не карета. Знаете ли, таких лошадей и такой экипаж нигде в мире нельзя найти, кроме наших железных дорог…
Однако они приехали вовремя. В одиннадцать часов пришел поезд, но вмешаться в толпу граф не мог, потому что ее не было. Приехало не более десяти пассажиров. Первым выскочил из вагона Алеша Хотынцев.
– Где вы сидели, дядюшка? Я в Царском обшарил все вагоны и не нашел вас.
– Вот видишь, мой друг, я по рассеянности вошел в вагон второго класса, да и остался там. А отчего ты знал, что я в Царском?
– Мне об этом тетушка написала. Она прислала в Царское курьера с просьбой приехать вместе с вами и ужинать у нее. Что у вас такое?
– Право, не знаю; я ни о каком ужине не слышал.
Горич видел, как граф и Алеша сели в карету и как глупый Иван, с пледом в руке, перебежал на другую сторону кареты и отворил дверцу.
– Что ты тут делаешь? – раздался голос графа. – Отстань, пожалуйста.
– Ваше сиятельство, графиня мне приказала непременно укутать ваши ножки.
Мысль об ужине явилась графине внезапно после отъезда мужа, и она немедленно привела ее в исполнение. Матримониальная нерешительность Алеши ей надоела, и она решилась покончить с ним в этот вечер. Предлог для ужина был очень хороший: обеды у Петра Петровича были скудны, и граф, возвращаясь из Царского, всегда жаловался на голод. Теперь, когда граф был переполнен яствами и винами Дюкро, один вид изящно накрытого стола, уставленного бутылками, привел его в содрогание.
– Нет, знаешь, Olympe, – сказал он, усаживаясь в столовой около жены, – сегодня обед у Петра Петровича был очень недурен, а главное, пресытный, так что я вряд ли буду в силах есть что-нибудь…
– Вот вздор какой! Что же было за обедом?
– Был суп tortue claire, потом – soudac a la normande, потом – selle de mouton[174], потом – еще кое-что…
– С чего же это наш бедный Петр Петрович так раскутился? Но есть ты все-таки будешь, потому что я велела приготовить твои любимые блюда.
Поневоле графу пришлось притворяться, что он ест, но пить он отказался наотрез, ссылаясь на головную боль. Зато Алеша ел с большим аппетитом и пил за троих. Графиня была с ним очаровательно любезна и даже выпила бокал шампанского за его здоровье. Когда подали кофе, графиня выслала людей и сочла своевременным начать атаку.
– Кстати, Alexis, вы знаете, что весь город говорит о том, что вы женитесь на Соне?
– Да, ma tante, я слышал об этом, – отвечал, слегка покраснев, Алеша.
– Что же вы скажете об этом?
– Что же я могу сказать? Я могу только дать честное слово, что я в этих слухах не виноват, что я ни одному человеку об этом не говорил.
– Конечно, я не могу сомневаться в вашем честном слове, но однако… откуда же взялись эти слухи?
– Послушай, Olympe, – вмешался граф, – не обвиняй, по крайней мере, Алешу в этих сплетнях. Я несколько раз просил тебя быть осторожнее…
– Ну, да, я так и знала. Я одна окажусь виноватой. Что бы ни случилось, я всегда виновата во всем.
Составляя утром план действий, графиня решила даже не подать вида, что она желает этой свадьбы. Она только попросит Алешу прекратить ухаживание за Соней, и это заставит его высказать свои чувства. Но вмешательство графа так ее рассердило, что все мысли ее спутались, и она обратилась с горькими упреками к Алеше.
– Что мой муж ко мне несправедлив, – это в порядке вещей. Обязанность каждого мужа – быть несправедливым к жене. Но почему вы против меня, этого я не могу понять… Погодите, не перебивайте меня. Я всю жизнь доказывала вам свое расположение. Когда вы еще были пажом, и Базиль сердился на вас за шалости, я всегда за вас заступалась. Наконец, еще недавно, когда все были против вас, – a propos de cette femme que je ne veux pas nommer[175],– я одна стояла за вас горой. Я сделала бал, просила вас дирижировать, чтобы сблизить вас с обществом, pour vous rehabiliter aux yeux du monde…[176] И что же? Вы не только не цените моего расположения, но даже не щадите мою бедную Соню. Разве вы не знаете, что это ухаживание, sans but[177], и эти толки о свадьбе могут погубить молодую девушку в глазах света?
– Но что же я могу сделать? – воскликнул с непритворным отчаянием Алеша. – Просить руки княжны я не смею, потому что не имею никакой надежды…
– Боже мой, какая скромность! Отчего же это?
– Оттого, что я вижу, что княжне многие нравятся гораздо больше, чем я.
– Кто же это, например?
– Ну вот, например, Константинов.
– Pardon, Alexis, но вы начинаете говорить глупости. Что такое Константинов? Il s'est bien battu a Sebastopol, il raconte joliment про Федюхины горы[178], mais voila tout[179]. Вспомните этот его ужасный тик, а главное, – le nom qu'il porte…[180] Разве это имя? Le joli plaisir de s'appeler madame[181] Константинов!
«А не хватить ли мне сейчас предложение? – мелькнуло в голове у Алеши. – Во-первых, тетушка от меня отстанет (самым горячим желанием Алеши было в эту минуту, чтобы тетушка отстала). Во-вторых, княжна действительно прелестная девушка, а в-третьих, я никогда еще не был женат; может быть, это и не так дурно».
– Вот видите, ma tante, я прежде всего съезжу в Москву, чтобы устроить кое-какие денежные дела, – начал было Алеша; но графиня поспешила прервать его речь и этим испортила все дело.
– Что касается ваших денежных дел, мой милый Alexis, то о них вам беспокоиться нечего. Вы считаетесь наследником Базиля, но у меня свое довольно большое состояние, которое я оставлю Соне, так что в случае вашей женитьбы вы получите все…
При этих словах графини Алеша весь вспыхнул. Ему показалось ужасно обидным, что его соблазняют деньгами. Он хотел ответить, что он себя не продает, но нашел, что это будет слишком грубо, и удержался. Потом он хотел сказать, что княжна Софья Борисовна слишком привлекательна сама по себе, чтобы нуждаться для привлечения женихов в тетушкином состоянии, но этот более мягкий ответ пришел ему в, голову слишком поздно. Потом – как это всегда с ним бывало при сильных душевных потрясениях – ему захотелось громко смеяться, но он удержался и от этого, не произнес более ни одного слова и, как-то странно улыбаясь, смотрел на графиню. Графиня одна говорила пространно и красноречиво на тему семейного счастья и ужасного положения неженатых молодых людей. Граф Василий Васильевич не мог выдержать этого потока красноречия и неожиданно захрапел. Графиня посмотрела на него с сожалением и сказала:
– Это всегда с ним бывает, когда он обедает в Царском. Le chemin de fer le fatigue trop…[182]
Алеша встал, молча поцеловал руку графини и исчез. Графиня разбудила мужа.
– Базиль, можешь меня поздравить, дело кончено. Не позже как через неделю Алеша сделает предложение.
Через неделю Алеша Хотынцев получил четырехмесячный отпуск и уехал с Павликом Свирским на охоту в свою казанскую деревню, ни с кем не простившись в Петербурге.
X
В пятницу на шестой неделе поста назначен был в Дворянском собрании концерт Контского[183]. Накануне этого дня Ольга Борисовна и Соня просили Угарова достать им билеты. Исполнить эту задачу было не так-то легко. Концерт был очень интересный, последний в сезоне, и все места были разобраны за неделю. Угаров хлопотал все утро, ездил к самому Контскому, и, наконец, ему удалось достать четыре билета. Один оставил для себя, остальные с торжеством повез к Маковецким.
Швейцар объяснил ему, что все пошли в Гостиный двор на вербы[184] и что дома одна княжна Софья Борисовна, только что вернувшаяся от министерши. Угаров быстро взбежал на лестницу. «Теперь или никогда, – подумал он, – такой случай больше не повторится…» Соня сидела в зале за роялем и разбирала какой-то новый вальс. Поблагодарив Угарова за билеты, она сказала ему:
– Вы знаете, Владимир Николаевич, что я во всю жизнь не проиграла ни одного пари. Вот и теперь. Вчера кто-то уверял, что вы не достанете билетов, а я предложила пари, что достанете непременно.
– Отчего же вы были так уверены в этом?
– Оттого что… не знаю сама, отчего. Оттого, что я знала, что вам будет приятно доставить удовольствие… сестре и мне… одним словом, вашим друзьям… Послушайте, какой прелестный вальс…
И Соня заиграла снова.
– Я действительно ваш друг, – сказал Угаров, облокачиваясь на рояль, – а потому решаюсь спросить у вас: справедливы ли те слухи, которые ходят о вас в городе?
– Какие именно?
– Слухов так много, что в них не разберешься. Одни говорят, что Хотынцев сделал вам предложение и что вы ему отказали; другие говорят, что на святой вы уезжаете и что свадьба будет в деревне…
Соня звонко рассмеялась и сказала, не прекращая своего вальса:
– На святой я не уезжаю, – свадьбы в деревне не будет, – Хотынцеву я не отказала: предложения он мне не делал. Вы видите: все неправда.
– Значит, вы свободны? – воскликнул Угаров. – В таком случае, княжна, будьте моей женой!
Вальс вдруг оборвался. Угаров пришел в такой ужас от звука произнесенных им слов, что с отчаянием схватил какую-то огромную нотную тетрадь и спрятал за ней лицо.
– Простите меня, княжна, – заговорил он, не смея взглянуть на Соню, – ради бога, не говорите ни слова. Я знаю, что вы скажете. Вы скажете, что вы подумаете и чтобы я подождал. Но я не могу ждать, я слишком долго ждал и мучился. Конечно, если вы не хотите, – что же делать!.. Только умоляю вас: не говорите. Если вы согласны, не ездите концерт и останьтесь дома. Я увижу, что Ольга Борисовна вошла одна, приеду к вам, и мы переговорим обо всем… Ну, а если вы войдете в концерт, тогда – что же делать!..
Раздался звонок. Угаров, как пуля, вылетел из залы.
– Вы разве не обедаете с нами? – спросил его в передней Маковецкий.
– Нет, извините, мне некогда, я еду в концерт. Сегодня концерт Контского.
– Что с ним сделалось? Оля, ты слышала? – сказал Маковецкий. – Право, он, кажется, сошел с ума. Концерт в восемь часов, а теперь четыре…
В семь часов Угаров уже входил в длинную и узкую комнату, прилегающую к большой зале Дворянского собрания. У дверей залы за столом, покрытым зеленым сукном, сидел господин во фраке и раскладывал программы концерта. Против входа, прислонясь к окошку, стоял караульный офицер в каске. Этих людей Угаров видел в первый и в последний раз, но лица их так врезались ему в память, что всю жизнь он не мог их забыть. Очень скоро начал появляться первый слои публики: гимназисты и технологи[185], бледные девицы в красных кофточках, молодые люди в пиджаках, дамы в широких домашних блузах. Все это люди, имевшие билеты на хорах и явившиеся заблаговременно, чтобы занять места получше. Около половины восьмого наплыв их уменьшился; в течение нескольких минут Угаров опять не видел никого, кроме караульного офицера и господина во фраке. В три четверти восьмого прошла величавая дама в черном бархатном платье, с жемчугом на шее, потом появился генерал в мундире и звездах, потом опять дама, также в черном бархатном платье, менее величавая, но зато с тремя дочерьми, потом уже непрерывной цепью повалила остальная элегантная публика. Угаров приютился за господином во фраке и, закрывшись большой программой, не сводил глаз со входной двери. При первых аккордах увертюры, раздавшихся в зале, он увидел вдали высокую фигуру и расчесанные бакенбарды Маковецкого. Угаров невольно зажмурился на секунду. Сердце его уже не билось, а стучало, как маятник. Когда он открыл глаза, бакенбарды были в пяти шагах от него; еще ближе к себе он увидел стройную фигуру Ольги Борисовны. Рядом с ней шла Соня. Лицо ее было серьезно и строго. Никогда еще оно не казалось Угарову так красиво и так ненавистно. «Тем лучше», – сказал он сам себе и стремительно бросился вниз, в швейцарскую, к удивлению и негодованию изящной публики, поднимавшейся по лестнице сплошной стеной. «Тем лучше», – сказал он громко, вскакивая на извозчика.
Приехав домой, он послал швейцара за Миллером и объявил Ивану, что на следующее утро они едут в Угаровку.
– Это никак невозможно, – сказал Иван, почесав затылок, – у нас все белье в мытье.
– Ну, возьми белье от прачки…
– Как же я возьму белье? Ведь оно будет совсем сырое, а прачка деньги потребует, как за настоящее.
– Делай как знаешь, но завтра в одиннадцать часов утра мы выезжаем.
Иван еще продолжал ворчать, когда вошел Миллер.
– В чем дело?
– Я получил важные известия из деревни и завтра уезжаю.
– Надолго?
– Может быть, навсегда. Будь так добр, сдай кому-нибудь мою квартиру, – срок контракта через полтора года, – и продай мебель.
– Ну, за нее много не дадут.
– Это мне все равно. Я готов даже отдать ее даром хозяину, если он уничтожит контракт. Как ты думаешь, он согласится?
– Конечно, согласится, но это будет слишком глупо. Завтра поговорим с ним вместе.
– Я завтра уезжаю, в одиннадцать часов.
– А отпуск взял?
– Нет, не взял.
– Так как же ты уедешь без отпуска? Поезжай послезавтра.
– Нечего делать, придется отложить. Впрочем, мне надо еще заплатить кое-какие счета; поеду послезавтра.
– Ну вот, оно так-то будет лучше, – сказал Иван, любивший подслушивать. – По крайности, белье просохнет.
Миллер начал ходить взад и вперед по гостиной в глубокой задумчивости. Потом он зажег свечу и обошел все комнаты, соображая что-то.
– Ну, прощай, завтра утром зайду.
А Угаров отворил все ящики своего письменного стола и начал перечитывать и рвать письма, накопившиеся у него со времени приезда в Петербург. Письма Марьи Петровны он хотел сохранить и откладывал в особую шкатулку. Вдруг он вздрогнул. Ему попалась под руку единственная записка, полученная от Сони: «Сегодня в девять часов у нас играют квартет Бетховена, который вы так любите. С. Б.» Он скомкал эту записку и хотел изорвать ее с ожесточением, но рука его как-то машинально бросила ее в шкатулку. «Изорву потом», – оправдывался он перед собою.
В первом часу ночи раздался звонок. Вошел Миллер.
– Як тебе по делу. Согласен ли ты на следующие условия: квартиру ты передашь сейчас же, за мебель тебе дадут половину того, что она тебе стоила, но только деньги ты получишь через год.
– Как же мне не согласиться? Я лучших условий не желаю.
– Ну, в таком случае дело кончено. Твою квартиру я беру для себя.
Миллер ушел и через минуту вернулся опять.
– Еще забыл сказать одно условие. Завтра в пять часов ты должен у меня обедать и, если тебе все равно, надень фрак.
На следующее утро Угаров прежде всего отправился в министерство. Горич устроил ему отпуск в несколько минут, и хотя спросил о причине его внезапного отъезда, но ему показалось, что Горич знает все. Эта мысль была так ему невыносима, что он поспешил уйти и даже не сказал о дне своего отъезда, чтобы избежать дальнейших свиданий с Горичем. Потом он отвез в магазин Овчинникова остававшиеся у него книги. Сомов очень внимательно сосчитал их, возвратил Угарову залог и попросил расписаться в получении денег.
– Что же, Орест Иваныч, – спросил Угаров, расписываясь в большой книге, – и вы тоже думаете, что при мне надо остерегаться, как бы не сказать чего-нибудь лишнего?
– Нет, я этого не думаю, – отвечал, потупив глаза, Сомов, – потому что я не считаю вас способным на какую-нибудь подлость. Но только опять и то правда, что видеться нам бесполезно, потому что убеждения у нас слишком различны. Да и дороги наши разные, – прибавил он каким-то особенно грустным тоном и поспешил перейти к какой-то толстой даме, которая уже давно приставала к приказчику, чтобы он дал ей «Education maternelle»[186] с картинками.
Хотя Угаров никогда не нуждался в деньгах, но в течение трех лет у него накопились кое-какие мелкие долги в магазинах. Заезды в эти магазины, а также к портному заняли у него много времени. Счет у Дюкро оказался на тысячу рублей более, чем он предполагал, так что половину долга он обещал выслать из деревни. Мадам Дюкро очень просила этого не делать и выразила готовность ждать хоть десять лет. От Дюкро Угаров зашел сделать прощальный визит дядюшке. Иван Сергеевич Дорожинский сидел на своем обычном месте, но в другом, более широком кресле, перенесенном из спальни и обложенном подушками. Он простудился и уже несколько дней не выезжал из дома.











