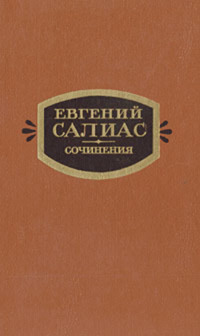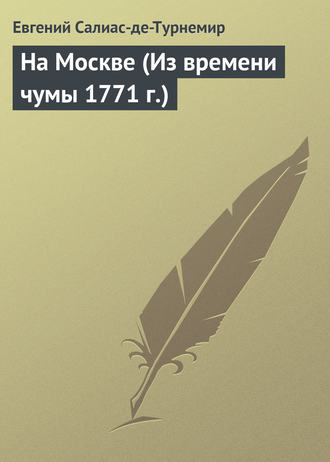 полная версия
полная версияНа Москве (Из времени чумы 1771 г.)
Барабин не появлялся ни вечером, ни на другой день. Старик Артамонов, явившись с сыном в дом дочери, где уже давно не бывал, онемел от негодования, узнав всю правду, и тотчас принялся за поиски зятя, обещая к утру разыскать его.
– Да и без него похороним, – вмешался священник, – что же его ждать-то?
– Да нешто для похорон, для чествования искать его я пойду? Я его разыщу, чтобы в острог сдать, на цепь…
Павла услышала слова отца и обернулась к нему с изменившимся лицом. Этого ей и на ум не приходило. Считая своего мужа преступным и перед ней самой, и перед ребенком, она все-таки не подумала, что он может оказаться преступным и перед начальством.
Увидя вопросительное выражение лица своей дочери, Артамонов приблизился к ней и спросил твердо, почти гневно:
– Что? Или свидетельствовать не станешь? Так после этого ты ко мне на порог не ходи! Коли ты не пойдешь в свидетельницы вместе с мамками, так, стало быть, ты вместе с ним в убийстве согласилась! Я сейчас же поеду по начальству, – к самому Еропкину, к преосвященному поеду! Не буду я Мирон Артамонов, если у меня через неделю не будет он в кандалах, а ты – свободна.
Уходя от дочери и прощаясь, Артамонов ласково сказал Павле, положив руки на ее опущенную голову:
– Полно, дочка, не кручинься! Ты еще молода: выдам я тебя замуж за хорошего, доброго человека. Приживете вы мне еще целую дюжину внучат, а это все позабудется!
Павла отчаянно зарыдала при этих словах отца, но что-то такое смутное говорило ей будто на глубине души, что отец прав, что все это забудется, что еще много у нее впереди не только лучшего, доброго, но вполне светлого и радостного, не имеющего ничего общего с ее прошлым.
Еще через день, – который прошел в разных обрядах над маленьким мертвецом, – Павла проводила наконец малютку на кладбище и вернулась к отцу в дом уже не так дико и странно спокойная, какова была она в первый день несчастия. Теперь сердце ее было уже доступно для всяких человеческих и материнских чувств. Так, в церкви и затем на кладбище, ее материнское сердце было не раз уязвлено вопросами посторонних:
– Не чумной ли?
И это слово, уязвлявшее ее, провожало ее повсюду от дома до церкви и от церкви до кладбища. Павла грустно, но твердо сто раз отвечала всякому:
– Нет, не чумной! Отец убил!
XVII
Матвей Воротынский и не подозревал, конечно, что был косвенно виновником события в доме Барабиных. На другой день он снова, сначала в церкви и затем в переулке, напрасно прождал Павлу, отправился в дом и, узнав о похоронах ребенка, был приятно удивлен. Он вспомнил, что Павла сама вскользь намекала ему, что если бы не малютка, то она бы решилась бежать от ненавистного мужа.
– Вот умница малютка! Как кстати помер! – весело говорил Матвей.
Матвей и не воображал, что тут было преступление. Когда он был в доме Барабиных, то люди не посмели сказать ему правды, объясняя смерть малютки обыкновенным образом. Они боялись признаться важному генералу, как бы чуя, что это будет прямой донос на хозяина. Но через день Матвей совершенно случайно узнал правду, и причина этому была Аксинья.
Молодая женщина была у него в доме не скрытно; все знали, что она беглая крепостная, любимица его отца. Через три дня после появления Аксиньи в его доме уже началась та «камедь», как выражался Матвей, которой ему и хотелось.
Бригадир узнал, что Аксинья в доме сына, и тотчас с угрозами стал требовать ее возвращения. Матвей отвечал посланному, что не отдаст, так как она ему самому уже давно очень полюбилась. С этого же дня начались постоянные сношения между двумя домами, между отцом и сыном. Первые два дня бригадир грозил сыну всем московским начальством, грозил жалобами в сенат и в Петербург, самой императрице – грозился на все лады! Но Матвей отвечал смехом на все и забавлялся гневом отца.
– Скажи родителю, – смеялся Матвей, приказывая одному из посланных, – что я на Аксинье жениться собираюсь, так она мне приглянулась.
Матвей шутил, а «дюжинный» бригадир верил всему совершенно искренно, верил, что его любимица стала любимицей сына. И через несколько дней Матвей узнал, что отец обил все пороги всего московского начальства, поднял на ноги Еропкина и даже самого Амвросия.
Действительно, бригадир жаловался всем и серьезно собирался жаловаться «матери отечества», т. е. императрице. Старый волокита потерял голову. Теперь только увидел он сам, насколько глубоко привязан к этой женщине. Отсутствие взаимного чувства в Аксинье не приводило его в отчаяние.
– Пускай хоть силком, да живет у меня! – рассуждал он.
Еропкину бригадир жаловался на своевольное укрывательство крепостной и беглой девки родным сыном и требовал, чтобы ему привели ее через полицию. Еропкин обещал, но, занятый более серьезными делами, конечно, забывал об этом каждый раз. К тому же сенатору, презиравшему московский дворянский круг и его – как выражался умный Петр Дмитрич – каракалпацкие и самоедские обычаи, не хотелось вступаться в срамное дело, где родной сын отбивает любовницу у отца, а тот, в свою очередь, требует к себе силком чужую жену.
Когда Еропкин не был начальником края, то постоянно доходившие до него слухи о разных безобразиях московского общества заставляли его часто покачивать головой и говорить:
– Срамота, срамота! Совсем каракалпаки! Конечно, слаб человек, но все ж таки всему мера есть. А у наших московских дворян ни в чем меры нет. Того и гляди, услышишь, что дедушка на родной внучке женился, а бабушка за правнучка вышла, а поросеночек яичко снес!
Теперь, сделавшись начальником Москвы, Еропкину приходилось, среди забот о моровой язве, постоянно вступаться в дела совершенно частные, так как было в обычае во всяком деле, вполне семейного характера, отправляться жаловаться к генерал-губернатору и вообще по начальству.
Видя нежелание помочь в Еропкине, «дюжинный» бригадир стал уговаривать и упрашивать преосвященного вступиться в дело. Он уверял Амвросия, что это дело незаконное и с гражданской стороны, и с духовной. Церковь и духовенство не должны были, по его словам, оставлять таких дел без наказания.
– Поймите, ваше преосвященство, – отчаянно и горячо доказывал бригадир, – грех какой великий! Ведь она, почитай, женой моей была, а ведь он мой родной сын! Вступитесь, ваше преосвященство, не оставьте молений оскорбленного старика отца!
И Амвросий тоже обещался Воротынскому сделать что можно, т. е. попробовать увещаниями заставить молодого офицера возвратить беглую женку.
И вот, однажды, на третий день после преступления, в котором он был виновен, Матвей вдруг был вызван к преосвященному. Он догадался тотчас, что это по поводу Аксиньи.
Действительно, Амвросий вызвал молодого офицера по поводу истории, которую уже рассказывали теперь все дворяне, еще не успевшие бежать из Москвы от чумы. Давно привыкла Москва ко всякого рода срамным историям, но вновь появившийся в стенах ее молодой питерский гвардеец все-таки удивлял всех, заткнув за пояс ее доморощенных молодцов.
Ожидая своей очереди быть принятым преосвященным в его кабинете, Матвей сидел в приемной с несколькими лицами и в том числе с необыкновенно благообразным и красивым стариком, который ему крайне понравился. Вдобавок Матвей был поражен тем, что в чертах лица красивого старика он нашел знакомые ему и даже теперь отчасти дорогие черты лица его замоскворецкой красавицы. Он подсел к старику, познакомился с ним и, со свойственной ему ловкостью и умением, начал любезничать с ним. Но старик был очень озабочен, угрюм и, почти не глядя на него, только отвечал кратко на его вопросы. Он объяснил молодому человеку, что явился к Амвросию просить о разводе дочери. И Матвей тут в первый раз узнал от самого старика Артамонова, что муж его красавицы убил, хотя и нечаянно, собственного сына.
Матвей тотчас быстро оставил своего собеседника, почти отскочил от него. Он сразу догадался, что ввиду затеваемого им относительно Павлы, конечно, не следует быть лично знакомым с стариком отцом.
– Мало ли что может еще случиться! – тотчас сообразил Матвей. – Коли он меня в лицо будет знать – дело дрянь! Экая глупость, зачем я к нему лез! Спасибо, кажется, ни разу не поглядел на меня, благо огорчен.
Матвей тотчас удалился и сел спиной к старику. Но Артамонову было не до него; он действительно ни разу не поглядел в лицо молодого гвардейца. Он был озабочен тем, согласится ли Амвросий тотчас нарушить брак его дочери с извергом, которого он напрасно разыскивал по Москве, чтобы посадить в острог.
– Беда, – думал он, даже бурчал вслух, – беда, и купить нельзя: будь другой преосвященный, заплатил бы хоть сто тысяч, чтоб освободить Павлиньку да опять замуж выдать. А этого не купишь. Скажет: обратися, мол, в Синод.
И старик, сумрачный, ждал очереди.
Матвей Воротынский, как петербургский гвардеец и дворянин, был принят Амвросием прежде старика купца, хотя тот и явился ранее молодого человека.
Амвросий строго стал увещевать Матвея тотчас возвратить отцу его беглую крепостную. Матвей объяснил преосвященному все дело, объяснил, что Аксинья ненавидит его отца, что она незаконно продана в разные руки от мужа, мечтает только о том, чтобы соединиться с любимым мужем и избавиться от насильственного положения наложницы, и что, наконец, муж ее должен откупиться вскоре на волю.
– Ведь это греховное дело! – говорил Матвей.
На это преосвященный, к удивлению молодого человека, отвечал только одно:
– Все это до меня не касается, все это дело гражданское. А я от вас желаю, молодой человек, только того, чтобы вы, вернувшись домой, немедленно отпустили батюшке-родителю беглую и крепостную его девку.
«Вот тебе и раз, – подумал про себя Матвей. – Вот тебе и архиерейская справедливость!» – думал он, уже ворочаясь домой.
Дома он нашел Аксинью сияющею от радости: она нашла своего Васю, успокоила его и привела в дом Матвея. Но молодой человек должен был одним словом уничтожить радость их обоих, передав приказ Амвросия. Они решили, уже втроем, обождать несколько дней, поглядеть, – что будет.
На другой день на дворе палат молодого гвардейца показалась карета цугом, из которой вышел архимандрит Донского монастыря. Матвей понял сразу, в чем дело. Действительно, архимандрит приехал спросить от имени преосвященного, исполнена ли известная им обоим просьба, и если не исполнена, то его преосвященство намеревался завтра же келейным образом обсудить это дело и принять некоторые меры против господина офицера.
«Ах, черти этакие!» – подумал про себя Матвей и, отпустив Антония с уверением, что все будет исполнено в тот же день, отправился в горницу, где поселил двух супругов.
– Что же делать, голубчики, – объяснил он. – Не могу же я из-за вас пострадать. Видели – присылал архимандрита. Из-за такого пакостного дела в Синод жаловаться на меня хочет. Нечего делать – не отвертишься. Ступай уж к нему!
Василий Андреев, после упорного молчания, кончил тем, что сам посоветовал жене идти к Воротынскому.
– Ступай. Но небось не надолго. Не пройдет месяца – я тебя выкраду, а этих обоих старичков угощу по-своему.
– Каких обоих? – изумилась Аксинья.
– И твоего бригадира, да и архиерея в придачу.
В тот же вечер Аксинья сама вернулась снова в дом своего ненавистного бригадира, а Василий Андреев поехал в Серпухов разыскивать своего барина, чтобы откупиться на волю, а затем распорядиться и с женой, и с своими врагами.
XVIII
Житье-бытье двух монастырских послушников, Абрама и самозванца Бориса, шло по-прежнему, но менее мирно и любовно. После посещения Марьи Абрамовны Уля была менее счастлива. Абрам, казалось, менее любил ее, начал снова скучать и снова мечтал только об одном – как бы скорее выбраться из монастыря. Когда в Донском появилась Уля, то капризный и избалованный барич на время утешился: у него явилась забава, игрушка, и он примирился со скукой монастырской жизни. Но теперь, когда забава эта стала менее занимательна, игрушка начинала наскучать, он снова по целым дням мыкался по монастырю, по кельям разных монахов или сидел и совещался с дядькой, как избавиться от монашества. Менее всего проводил он время с Улей. Хотя он и уверял и ее, и себя, что по-прежнему любит ее, но, в сущности, его прежнего чувства к девушке не было и следа.
Уля наивно не понимала этого; она не могла допустить мысли, чтобы Абрам мог не только так быстро, но вообще когда-либо перемениться к ней. Она была уверена, что они связаны навеки самым несокрушимым чувством. Если бы кто стал ее уверять в противном, то она почла бы это клеветой на своего дорогого Абрама Петровича. Унылый и скучный вид Абрама она объяснила тоской монастырской жизни и была убеждена, что если когда-либо они выберутся из Донского, то тотчас отправятся в церковь венчаться. Никогда не говорила Уля об этом с Абрамом, а между тем была глубоко в этом убеждена.
Абрам, постоянно совещаясь с дядькой, умолял его придумать средство освободиться. Дядька Дмитриев уговаривал только барича потерпеть немного.
– На Москве и по всей России чума, мрут люди. И господа не меньше холопов. Авось и вашу бабушку подцепит чума, тогда мы и освободимся.
Но подобного рода утешения мало действовали на Абрама.
– Ведь ты обещал прежде, – приставал Абрам к дядьке, как малый ребенок. – Ты всячески обещал, что таких дел наделаем, что нас непременно выгонят, а вот и не сдержал слова: сидим да киснем. На словах ты был прыток…
– А что же делать? – отвечал дядька. – Нешто я виноват, что святые отцы сами срамники? Нешто мог я думать, чтобы настоятель монастыря, узнав про нашего служку Бориса, кто он таков есть, оставит нас в монастырской ограде? Моя немалая надежда была на нашего Борьку, – шутил Иван Дмитриев, – а что ж вышло? Архимандрит знает, что Борька – Ульяна Борисовна, и молчит. Какое ж нам теперь колено выкинуть, чтобы нас отсюда погнали? Только одно и остается: за обедней петухом пропеть: ку-ку-ри-ку или самого архимандрита ночью обокрасть.
– Ты все шутишь, – плакался Абрам, – мне просто хоть помирай. Если этак еще немножко прожить в монастыре, так я в татарскую веру перейду со злости.
– Муллы нет! А то бы и я с вами перешел… Выписать разве?
– Ты все только бы балагурить!
– Потерпите немножко. Поглядите, чума все переделает, верно вам сказываю, – утешал дядька барчонка. – Быть не может, чтобы все по-прежнему пошло. Либо вашу бабушку в вотчине чума скрючит на тот свет, либо в дороге угодит она под какой мост али в овраг. Не может того быть, чтобы эта смута на Руси прошла, да нам от нее никакой выгоды не произошло.
Дмитриев надеялся на чуму недаром: лето было уже на половине, наступал июль, месяц жары, и в Москве умирал народ все более и более. А из нее чума расходилась по окрестным деревням и селам и по ближайшим маленьким городам. Многие дворяне, бежавшие из Москвы, умирали у себя в усадьбе. Наконец однажды, в Донском монастыре, утром, сделалось вдруг волнение среди его обитателей. Монахи всполошились все от известия, что у них в Донском учреждается карантин и что они должны принимать из столицы наполовину зачумленных людей или только находящихся в подозрении.
Долго отстаивал архимандрит свой монастырь от начальства, но наконец должен был уступить. И действительно, в Донской начали отправлять всех сомнительных людей, у которых в доме были умершие родственники.
После первого страха, который быстро рассеялся, в монастыре началось, конечно, житье более веселое. Каждый день приезжали или просто приходили пешком партии всякого рода людей – и дворян, и купцов, и простых мещан, – и все они распределялись по разным кельям. Некоторые из них были совершенно здоровые; их отправляли в монастырь только потому, что в их доме оказались больные или умершие – иногда даже не от чумы. Но были, конечно, и случаи заболеваний и смерти.
В келье молодого барина Ромоданова, которая была самая большая, пришлось помещать тоже «сумнительных», как называли их. Таким образом стали появляться в домике Абрама разнородные постояльцы, иногда очень любопытные и веселые. Во всяком случае, жизнь в монастыре началась совершенно иная: было больше народу, больше шума, больше суеты и менее служб церковных, меньше молитв.
Партии «сумнительных» пригонялись обыкновенно около полудня, и почти каждый раз наличное население монастыря выходило за ворота встречать вновь прибывших. Вместе с другими выходил и архимандрит, и тут же, приняв гостей, распределял их по разным кельям и домикам. Абрам, Дмитриев и Уля, отчасти от праздности, отчасти из любопытства, тоже выходили навстречу новым гостям. Абрам брал к себе постояльцев по собственному выбору, с позволения архимандрита; разумеется, он брал более приличный народ – преимущественно дворян.
И вот однажды, несмотря на дождливую погоду, Абрам вместе с Улей вышли за монастырские ворота поглядеть, кого пошлет судьба на нынешний день к ним в карантин. Иван Дмитриев на этот раз отказался идти: ему уже надоело это зрелище.
Партия вновь прибывших подъехала на трех подводах к монастырским воротам с конвоем солдат. Архимандрит, по обыкновению, вышел тоже встретить вновь прибывших. Абрам рассеянно оглядывал разные лица вылезавших из телег. Уля стояла около него. Но вдруг оба они встрепенулись.
– Господи Иисусе Христе! – воскликнул около них хорошо знакомый им голос. – Улюшка, ты ли это? Что такое? Господи помилуй!
Восклицание это вырвалось у привезенного, в числе прочих, в карантин Капитона Иваныча Воробушкина. Он видел свою племянницу и, несмотря на ее одежду монастырского служки, тотчас узнал ее, Абрам смутился и вспыхнул; но Уля, нисколько не оробев, не потерявшись, бросилась на шею к своему дорогому Капитону Иванычу и начала целовать его.
– Господи! думала ли я увидеть вас! Думала – никогда не свидимся, а вот Господь привел!
– Да что такое? Отчего ты в этом одеянии? Что это значит? в толк не возьму! – изумлялся и растопыривал руками Капитон Иваныч.
– А это так нужно. Вы только молчите. Пойдемте к нам – я все вам поясню, – говорила Уля совершенно просто и весело и нисколько не смущаясь.
Все трое уже двинулись было к келье Абрама, когда вдруг приблизился к ним сам архимандрит. Он познакомился с Воробушкиным, когда тот комиссаром был, и теперь подошел поздороваться с ним.
– И вы к нам, господин Воробушкин? Знать, вы больше не комиссар? – любезно сказал он, подходя.
Воробушкин объяснил постигшее его горе.
– И при жизни супружницы моей, – сказал он, – мало мне было от нее радости, да и померла будто на смех.
Уля, при известии о смерти Авдотьи Ивановны, невольно ахнула.
– Как? Померла? Когда? Отчего? – воскликнула она, забывая, что сама выдает себя этими вопросами.
– Да померла от чумы, а меня вот сюда отправили, – выговорил Капитон Иваныч и тотчас, обратившись к архимандриту, прибавил просто и любезно: – А вот позвольте вам рекомендовать мою племянницу. Впрочем – что ж я?! – ведь она у вас: вы, стало быть, должны знать ее. Только, признаюсь, удивительно мне очень, что вы…
– Что вы изволите говорить? – сурово и делая вид, что ничего не понимает, сказал Антоний.
Капитон Иваныч объяснился.
– Вы изволите ошибаться, это наш монастырский служка, Борис, живущий вот у Абрама Петровича.
– Борис? Какой Борис? Отец ее, мой брат, Борисом звался, – изумляясь, выговорил Воробушкин.
И наступило вдруг самое странное молчание; все четверо были смущены и не знали, как выбраться из беды.
– Если же вы точно признали в этом служке свою племянницу, – выговорил вдруг строго архимандрит, – то это дело так оставаться не может. Стало быть, я был введен в обман и должен тотчас же донести об этом его преосвященству. Это есть поругание нашей обители и монастырского устава и даже грех пред Господом.
И архимандрит, не дожидаясь ответа или объяснения, отвернулся и отошел от Воробушкина.
– Что вы наделали! Голубчик! Капитон Иваныч! – взмолилась Уля. – Ведь теперь беда будет!
Но Капитон Иваныч окончательно потерялся, ничего не мог сообразить и снова обратился к племяннице с вопросом:
– Да что же все это значит? Я в толк не возьму! Стало, он не знает. Тебя Борисом зовет.
– Да я так сама сказалась. Не могла же я, голубчик мой, служкой одетая, Ульяной сказываться.
– Да зачем? Зачем ты сюда-то попала? Что тебе тут делать у Абрама Петровича?
Уля, вместо всякого ответа, повела, почти потащила своего Капитона Иваныча в келью. Абрам побежал к дядьке, и оба тотчас умышленно скрылись из дома, предоставляя Воробушкину узнать все от самой Ули.
– Эка важность! – сказал Дмитриев отчасти смущенному питомцу. – Ну, узнает все и съест. И дядя-то он ей приходится по тому же обряду самодельного венчания. А вот подумайте лучше. Сбираться надо. Антошка нас авось ныне же и турнет отсюда вон.
Между тем Уля подробно рассказывала Воробушкину, как попала в монастырь и согласилась, из любви к Абраму, на перемену и одежды женской, и имени, и на положение наложницы.
Последнее не сразу понял Воробушкин.
– Ты его любовница! – воскликнул наконец Капитон Иваныч.
– Да ведь я же вам и поясняю это! – просто, с светлой улыбкой на губах отозвалась Уля.
Воробушкин окаменел не от подтверждения известия, а от непонятного ему спокойствия Ули и ясности в ее глазах и в ее голосе.
Уля заговорила опять, рассказывая свое житье в монастыре, и страстно, восторженно описывала Воробушкину, как она любит Абрама.
– Я думала прежде, что я на горе иду, на муку, и вышло, что я не знаю, как и Бога благодарить за свое счастье. Этакого счастья я и ожидать не могла…
Но вдруг Капитон Иваныч, слушавший любимицу, горько залился слезами. Уля, перепуганная, бросилась к нему на шею и начала целовать его.
– Что вы! Что вы! Капитон Иваныч! Родимый! Дорогой! Да об чем же вы? Об покойнице своей, что ли, вспомнили?
– Ах, Улюшка! Да ты что же это? Вчера родилася, что ли? Думалось ли мне до этакого дожить!.. А я-то выбивался из сил, чтобы тебя от бригадира Воротынского спасти… Во что попала-то!.. Ведь теперь никогда тебе уж замуж ни за кого не выйти…
– Вестимо, ни за кого, кроме его, и не пойду! – воскликнула Уля с укоризной, что Воробушкин мог ее заподозрить в противном. – Буду его ждать!
– Как ждать? Чего?..
И Уля объяснила Капитону Иванычу, что как только старуха Ромоданова умрет, так она станет женой Абрама, и он, поступив в гвардию, поедет с ней в Петербург.
– Да ведь это песенка всех этаких поганцев совратителей! Все это враки ихние! – возопил отчаянно Воробушкин. – А ты, овечка моя простодушная, и поверила! Ах, да как это я не углядел!.. Все я виноват, старый, слепой пес!..
И Капитон Иваныч снова принялся плакать.
– Как? Вы не верите! Вы думаете, Абрам Петрович может так обманывать?
И Уля стала доказывать Воробушкину горячо и увлекательно, что стыдно ему заподозривать Ромоданова, что это кровная обида и ей самой. Что она этого и не ждала от доброго и всегда справедливого Капитона Иваныча.
Напрасно Воробушкин убеждал племянницу, что не верит ничему и готов голову отдать «на отруб», что она обманута и барчонком, и его дядькой.
Уля наконец тоже заплакала, глубоко обиженная за себя и Абрама.
– Ну, ладно. Пускай я вру. Пускай будет покуда по-вашему. Но скажи мне, как пошла ты на такой грех и срам? – вдруг переменил разговор Воробушкин.
Уля широко раскрыла глаза и перестала плакать.
– Какой же тут грех или срам? Сраму нет, потому что мы об этом никому не сказываем; а кто сам узнает – молчит. А грех-то какой же? Разве мы убили кого, ограбили?…
– Грех перед Господом! Без венчания разве можно жить супружескою жизнью? За это Господь наказывает и на том, и на этом свете…
– Что вы, Капитон Иваныч! Христос с вами! какое вы загородили! Вот уж я от вас не ждала-то!.. – изумленно и даже наивно-насмешливо вымолвила Уля.
И она стала глядеть на Воробушкина, как глядит взрослый на шалость или нелепую болтовню дорогого ребенка.
– Да тебя они совсем, стало быть, совратили. И разум-то твой совращен с пути истинного! – закричал Воробушкин. – Брак – таинство! Венчание Бог повелел и церковь, и отцы святые установили. А мало ли что мерзостные люди выдумывают и как грешат! Ну, на них проклятие Божеское посылается. Знавала ли ты хоть единую девицу богобоязненную, чистую и непорочную, которая бы жила с кем без бракосочетания?
– А моя матушка? Мой родитель – ваш братец! – едва выговорила Уля от удивления, в которое ее приводили слова Воробушкина.
Воробушкин поперхнулся, закашлялся и, замолчав, встал с места и начал искать что-то по горнице.
– Это совсем было, Улюшка, другое дело. Это не пример тебе! – храбрее выговорил Капитон Иваныч через минуту.
– Ах, полноте!.. Кто же пример, если не отец с матерью! – воскликнула Уля. – Как не совестно вам, право!.. Вот давно-то не видались! Что вы стали говорить! Прежде бы не сказали, что мой родитель и матушка были люди не… Ну, да что с вами вместе грешить! – махнула Уля рукой.