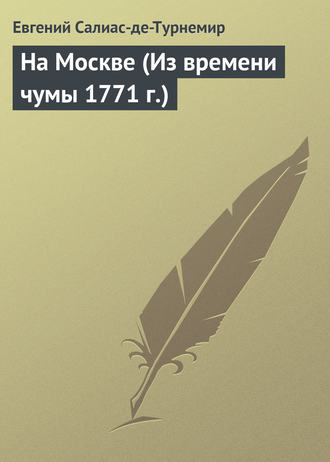
Полная версия
На Москве (Из времени чумы 1771 г.)
После минутного молчания она произнесла нерешительно:
– Ладно, оставайся; там видно будет.
И тотчас, к удивлению Ули, Авдотья Ивановна стала собираться и одеваться, чтобы идти вместе с Климовной куда-то по делу.
Уля невольно широко раскрыла свои красивые глаза и, не сморгнув, глядела на одевавшуюся барыню. Отсутствие ее из дому с Климовной предвещало всегда что-нибудь очень дурное.
Когда обе женщины вышли из дому, Уля села на первый попавшийся стул и глубоко задумалась.
VII
Ивашка долго стоял молча над Улей, с грустным выражением лица, почти даже с глупым выражением, и смотрел на ее поникнутую голову, бессознательно рассматривал красивый ровный пробор ее светло-русых волос. В голове его вертелась все одна и та же мысль: как пособить горю, как избавить Улю от Авдотьи Ивановны? И вдруг, словно надумав нечто очень умное и важное, он выговорил быстро:
– Уля, знаешь что?.. всем бы бедам конец – выходи ты замуж.
Уля подняла на него голову и глянула с изумлением.
– Что?!
– Выходи, говорю, замуж.
Уля, несмотря на свое грустное настроение, звонко и весело расхохоталась.
– Чего ты? Я не в шутку… Подумай только: выйдешь замуж, от барыни избавишься.
– Ах ты, Иваша, Иваша! – перебила его девушка, – все ты тот же! Сколько времени не видала я тебя, а все ты тот же.
– Чего тот же? – вдруг будто обиделся Ивашка.
– Да ты не обижайся… Вижу, вижу. Уж и губы распустил, как бывало прежде, – тихо и почти нежно произнесла Уля.
– Что же такое я сказал? – обидчиво заговорил Ивашка. – Вестимо, кроме эдакого, ничего не придумаешь. Выходить тебе замуж и наплевать тебе на Авдотью Ивановну и на всех.
– Изволь, сейчас выйду, да только за кого?
– Ну, как за кого?!
– Да так: за кого?
– Да я почем знаю.
– Ну, вот и я не знаю.
– Неужто же в столице нет никого? Народа в столице много.
– Да, народа, Иваша, много, да замуж не за кого.
– Отчего же так?
– А оттого, Иваша… – И веселое лицо Ули вдруг омрачилось. Она помолчала и выговорила: – Оттого, Иваша, что для мужицкой дворянки нигде пары не найдется. Я одна как перст, сама по себе, ни к кому не пристала. Во всей Москве есть у меня одна старушка-просвирня[5], с которой я могу водиться. Для одних хоть бы для дворян, для купцов, – я крепостная холопка; для других – хоть бы для прислуги нашей, – я барышня, только не настоящая, боковая…
И в светлых, серых глазах Ули вдруг показались две крупные слезы. Ивашка заметил их и вымолвил:
– Что ты! зачем? Ну вот и плакать! Боковая… что такое боковая?!
– Так меня, Иваша, здесь зовут. Как кто осерчает на меня зря, без толку, так и назовет «боковой» барышней.
– Что же это значит такое? мне невдомек…
Но Уля не отвечала на этот вопрос и продолжала тихо, глядя в пол:
– Вот оттого мне и не за кого замуж выходить. И за мужика нельзя, и за купца нельзя; а за барина – и говорить нечего. Мы с тобой, Иваша, мужицкие дворяне с детства были, да так и останемся. Ты еще – другое дело. Кто тебе приглянулся, ты и женишься, а я же не пойду говорить какому-либо человеку: сделай, мол, милость, женись на мне! Да и не до того, Иваша…
– Никому не пара!.. – бормотал Ивашка, как бы про себя. И он вдруг ахнул на всю горницу, точно будто испугался чего-то,
– Что ты! – воскликнула Уля.
– А за меня!
Уля не поняла. Ивашка вопросительно глядел на нее, пораженный сам своим открытием.
– Что?
– За меня.
– Что за меня? Что ты говоришь?
– За меня, за меня выходи!
Уля все-таки не сразу поняла и, поняв, опять звонко рассмеялась.
– Ей-Богу, Уля, за меня выходи! Ведь я буду вольный, – вот тебе Христос, – скоплю денег, откуплюсь, и как мы с тобой заживем отлично! Я пойду в дворники либо в кучера, а ты… – Ивашка запнулся.
– Вот то-то, Иваша, и не знаешь. Вот то-то и дело: ты в дворники, ну, стало быть, я – в кухарки.
– Нет, как можно!
– То-то, стало быть, нельзя. Ну – в горничные девки.
– Нет, как можно!
– Ну – в прачки, поломойки…
– Да нет, чего ты врешь!
– Ну, так как же, Иваша? Ты дворник, а я, будучи твоей женой, буду барышней-чиновницей? Видишь, вот никак и не клеится.
Ивашка вздохнул и выговорил тихо:
– Да, и то, не клеится.
И оба замолчали. Уля снова понурилась и думала о том, что часто приходило ей на ум: неужели же никогда не найдется человека, который полюбил бы ее, за которого она могла бы выйти замуж и зажить своим домком, своим счастьем. Часто невольно и смутно представлялся ей этот вопрос, и она отгоняла его, как нечто незаконное, как пустую, глупую мечту. Но теперь, когда в первый раз другой, хотя и ее молочный брат, заговорил об этом с ней, ей сразу яснее, настоятельнее представился этот жгучий вопрос.
Почему же и нельзя? почему же не найдется такого человека? Может быть, и найдется, может быть, и нашелся бы давно, если бы она не избегала так упорно и не боялась так страшно всякого нового знакомого. Хоть бы вот этот молодой барин, которого встречала она несколько раз на Знаменке, когда бегала в гости к просвирне… Этот молодой барин, который, будучи в церкви, прошлое Светлое Воскресенье, в конце заутрени пробрался через всю густую толпу прямо к ней, подошел вдруг и сказал: «Христос воскресе» – и прежде чем она успела опомниться, трижды расцеловался с ней. И с тех пор много ночей мешало ей спать его веселое, красивое, улыбающееся лицо. Хоть бы он?! Если бы она с тех пор около года не избегала его тщательно, не бегала к просвирне совсем другими переулками, что было бы теперь? Может быть… Но мысли Ули были прерваны внезапным скрипом отворившейся двери. На пороге показался Капитон Иваныч и, увидя Ивашку, взмахнул руками и ахнул:
– Иван! Иван!
И через секунду Капитон Иваныч душил Ивашку в своих объятиях и целовал его в обе щеки.
– Какими судьбами?! Ах, оголтелый народ! Ведь видел я, уходя, коня твоего на дворе, спрашивал этого черта, Маланью: кто тут? Говорит: приказчик приехал. Откуда? говорю. Не знаю, говорит. Ан это ты! Какими судьбами в столицу пожаловал?
Ивашка снова рассказал подробно, как был спроважен всем миром с родного села.
– За что? – воскликнул Капитон Иваныч.
Ивашка повел плечами и усмехнулся.
– Да все то же, Капитон Иваныч: говорит, лядащий, порченый, негодный; ну и спровадили.
– Порченый!.. – забурчал Капитон Иваныч, насмешливо усмехаясь. – Давай Бог им всем, подлецам, быть такими порчеными! Я по сию пору, Иван, не могу себе простить, попрекаю себя ежечасно, что тебе вольную не выговорил или за себя не взял при продаже вотчины. Был бы ты теперь у нас вот с Улей вместе.
– Да, – рассмеялась Уля, – был бы с нами! Да с Авдотьей Ивановной.
– Да, точно, – рассмеялся Капитон Иваныч и отчаянным жестом бросил свою шапку в угол. – Да, с моей Авдотьей, пожалуй, что и хуже, чем в крепости на селе. А вот что, Улюшка. Мы сегодня с ней опять шумели, – слышала, чай.
– Слышала.
– И знаешь, о чем?
– Знаю.
– А ну, вот и не знаешь.
– Знаю, Капитон Иваныч, не спорьте.
– Да не можешь ты знать.
– Почему-с?
– Потому, что я и сам не знаю!
– Вот так хорошо, – совсем развеселилась Уля.
– Ей-Богу, не знаю, вот как перед Богом! – добродушно и весело воскликнул Капитон Иваныч. – Шумела, шумела она, меня обругала… Постой, как бишь обругала?.. Мудрено что-то… Паркалком или карапалком, что-то такое. Это, вишь, такой народ есть, вроде калмыка. А я ее назвал и того хуже: Сидоровой козой. А за что все это у нас было – доподлинно не знаю. Затевает она что-то, я это чую, а что она затевает – не знаю; вестимо, скверное.
– Ну а я, Капитон Иваныч, знаю, – полугрустно, полувесело произнесла Уля.
– Ну, скажи, коли знаешь.
– Нет, не скажу. Вы ей скажете и все дело испортите.
– Не скажу, что ты! ну, ну… Ей-Богу, не скажу.
– Ладно, не в первый раз. Хоть разбежитесь, – не скажу. Когда будет время, сама приду и все вам выложу, а теперь ни за что не скажу. Вы только испортите. Как она придет, так ей и бухнете. Еще хуже и выйдет.
В коридоре в ту же минуту раздался голос барыни, и все трое, как по данному знаку, разошлись в разные углы комнаты и одинаково робко поглядывали на дверь.
– Легка на помине… как черту и подобает быть! – пробурчал Воробушкин.
Авдотья Ивановна вошла, запыхавшись и от ходьбы, и от своей большущей, тяжелой шубы, и от платка, который был намотан вокруг ее головы и шеи. Разоблачившись при помощи Ули, она оглядела всех трех и проговорила:
– Небось сидели все кучкой в уголке да шептались, а чуть меня заслышали – рассыпались по горнице.
– Ну, да как же, – отозвался Капитон Иваныч, – вишь ведь, какой комендант, подумаешь!
– Для такой мокрой курицы, как ты, я не токмо что комендант, а весь фельдмаршал Салтыков[6].
И с этих слов снова начался тот же шум, к которому так привыкли и люди Воробушкиных, и Уля, и даже соседи по Ленивке.
Покуда муж с женой перекидывались, придумывая, на сколько хватит разума, ехидные слова, Уля незаметно выскользнула из комнаты к себе в мезонин. Ивашка, послушав, поглядев исподлобья в лицо обоих супругов, тоже вышел вон и отправился на двор, вспомнив о том, что его лошаденка стояла, не кормясь, уже добрых часа три.
Сойдя с заднего крыльца, он, однако, не нашел на дворе ни саней, ни лошади.
«Ишь, добрый какой человек! – подумал он, – распорядился уже и убрал коня; поди, и овсеца засыпал».
Он заглянул в конюшню, в сарай, сбегал на задний двор, взглянул за ворота; но ни лошади, ни саней не было нигде. Уже в испуге бросился он на кухню спросить двух женщин.
– Конь?.. Конь?.. Санки?.. Санки мои?! – воскликнул он, вбегая в кухню.
– Эвося хватился, – выговорила одна из двух женщин, Маланья. – Твой конь давно у Климовны.
– Какой Климовны?
– А то, поди, и она уж небось давно продала да на эти деньги корову какую купила.
Ивашка стоял пораженный, почти не понимая ни слова. Женщина объяснила ему, однако, что покуда он болтал с Улей, барыня вместе с Климовной вышли из дома, потолковали, а там уселись в его санки и съехали со двора. А домой барыня вернулась уже пешком.
– Ну, ну! – воскликнул Ивашка, широко разевая рот от изумления и перепуга.
– Ну, она, стало, и отдала и коня, и санки Климовне на продажу.
– Кто?
– Да барыня же. Вот оголтелый-то!..
Ивашка даже выронил из рук свою шапку. Увидя его пораженную фигуру, изумление и отчаяние, обе женщины стали уговаривать и успокаивать парня и даже утешать.
– Ты, голубчик, спасибо скажи, что она тебя самого с санками не продала кому, – убеждала парня Маланья. – Она, голубчик, с Климовной белыми арапами торгует; так что ж ей чужой конь? Либо санки твои?
Ивашка, не слушая, поднял свою шапку, побежал в горницу, шибко влетел и застал Авдотью Ивановну уже одну в углу, на кресле, с ватрушкой в руках.
– Авдотья Ивановна!.. – забормотал он робко.
– Ну?
– Авдотья Ивановна… Как же-с?.. – и парень запнулся, глядя на спокойное и отчасти удивленное лицо барыни. – Мне сказывают на кухне… Сказывают, что вы моего коня…
Ивашка опять запнулся, так ему казалось странным и глупым все происшедшее.
– Продала? – вопросительно-спокойно выговорила барыня. – Точно. И не дорого. Цены на коней плохи теперь, да и заморил ты его дорогой. Ты, я чай, не овсом и не сеном, а, так полагаю, ременным кнутом кормил его всю дорогу.
– Да как же-с?.. – Ивашка развел руками. – За что же?.. И опять, конь этот не ваш.
– Да ты это что… – вдруг заговорила другим голосом Авдотья Ивановна. – Ты, никак, меня допрашивать пришел!.. А в полицию хочешь? В холодную хочешь? – Авдотья Ивановна встала и приблизилась к Ивашке, закинув слегка голову назад и руки за спину, – в солдаты – хочешь?.. В острог – хочешь?..
– Помилосердуйте!.. – вдруг выговорил Ивашка, отступая и кланяясь разгневанной барыне.
– Какой прыткий! Нос и уши обрежут на конной площади через палача! Хочешь? Прыткий какой… – И, поглядев несколько минут в лицо растерявшегося парня, Авдотья Ивановна выговорила вдруг тише и как будто даже кротко:
– Пошла вон, дурафья!..
Ивашка живо убрался из горницы, осторожно и тихонько затворил за собой скрипучую дверь и вышел опять в сени; здесь он стал и развел руками.
– Вот так колено! – проговорил он наконец, – да и что же конь, коли она, сказывают, белыми арапами торгует! А я было продать да разжиться хотел коньком. Ай да барыня! Вострая!
VIII
Между тем Ивашкин пегий конь был уже давно на маленьком дворе нового тесового домика вдовы расстриженного попа, Климовны. Конь был выпряжен из саней и привязан на морозе к кольцу. Вид у коня был самый плачевный. Он не ел со вчерашнего дня, и первое его впечатление от столицы было самое грустное. Насчет овсеца, о котором он мог мечтать дорогой, в виду первопрестольной столицы, не было и помину. Если б можно было влезть в душу пегого коня, то оказалось бы, что он думает: «Ну, уж хороша Москва! хороша столица! черт бы ее подрал! хуже нашей деревни. Там хоть иной раз голоден, так мошенническим образом и по соседству у коровы что стащишь. А тут вот стой перед стеной, привязанным к кольцу».
Климовна между тем сидела у окошечка, спешно пила чай и поглядывала на вновь купленного зеленого попугая, сидевшего на перекладине в углу. Она рассчитывала, допив последнюю чашку, идти продавать и его, и коня, нежданно добытого у ротозея Ивашки.
Вдова расстриженного попа, Климовна, была женщина лет пятидесяти, казавшаяся гораздо моложе своих лет. Она занималась уже давно всякого рода делами, и все эти дела, почти без исключения, пахли острогом. Хотя она была вдова и бездетна, не вмела никого родни, но дом ее был полон. Шум и гам не прерывался с утра до вечера, и всякий прохожий, который не знал, кто живет в этом домике, невольно думал, что в нем или особенное веселье и много ребят, и больших, и малых, или же беда какая приключилась: пожар или убийство какое и переполох от него.
Если бы, ничего не зная о житье-бытье Климовны, простой человек зашел в этот дом, то непременно бросился бы тотчас вон и пустился бы бежать что есть мочи.
Однажды так и случилось. Какой-то молодчик ошибся домом и, посланный к соседу Климовны, дьякону, попал к ней. Два живые существа вышли к нему навстречу в сени. Молодец заорал благим матом, как если бы в него пырнули ножом, и бросился бежать, завывая во весь голос и крестясь на бегу. Калитка сразу не подалась, и он как ошалелый перемахнул через забор. Весь переулок до угла промчался он, как ошпаренный, и долго потом рассказывал о том, что видел.
А дело было очень простое. Климовна покупала и продавала все, что можно было купить и продать, начиная от дров и кончая чепцами, начиная от лошадей и коров и кончая крепостными людьми, которых покупала и продавала из рук в руки, не имея права записывать на себя. Но главная статья ее дохода, ее любимый товар, в котором она знала толк и цену в на котором заработала много денег, были всякие карлики и инородцы, калмычки, башкирчата, киргизята и т. д. Даже раза три за всю ее деятельность удалось ей достать и продать очень дорого двух арапов и одного каракалпака. Понятное дело, почему парень, попавший в ее дом, встретя никогда не виданного крошечного калмычка и громадного худого как палка, черного, как уголь, арапа, перемахнул через забор, завывая на весь квартал.
Действительно, небольшой дом Климовны, комнат в пять, переполненный всевозможными уродцами, с разноцветными лицами, разных возрастов и разного роста, от аршинного карлика и до саженного туркменца, мог навести ужас на всякого простого человека. Сама Климовна привыкла к своему дикому и, главное, злому товару.
Многие умные и опытные люди советовали Климовне быть осторожнее. Действительно, ей попадались такие карлики и такие киргизята, которые могли нипочем ее только зарезать ее ночью, а просто загрызть в припадке дикой, животной злобы.
Климовна только усмехалась, когда ее предупреждали, но, конечно, никому не говорила о тех способах, благодаря которым она держала всю эту разнохарактерную и разношерстную ораву в повиновении.
А способы эти были самые разнообразные и самые сильные. Ей случалось расправляться с своими жильцами железным прутом, и однажды одну злую калмычку она заколотила до смерти. В другой раз посадила карлика на цепь и продержала несколько дней голодным, но когда дала ему кусок хлеба, он съел его и через час умер в судорогах. Долго жалела о нем Климовна: пятьдесят рублей пропало.
Между тем вдова расстриженного попа была женщина добродушная во всех своих отношениях с остальным миром. Даже своих уродцев она, в сущности, любила, но походила на того охотника, который проводит в болоте и лесу целые дни вместе с своим первым другом, легавым псом, обожает его, называет своим кормильцем, делится с ним ломтем хлеба, взятым из дома, и в то же время нещадно бьет его по нескольку раз в день.
Теперь, окончив последнюю чашку, Климовна надела шубу и пошла в ту горницу, несколько побольше других, где жили, ели, спали и сидели целые дни ее жильцы. Трое из них, карлик и два калмыка, спали на матрацах на полу вповалку, как собаки. Двое каких-то страшно курносых инородца, узколобые, коричневые, мохнатые, играли в какую-то мудреную игру из палочек и камешков, причем изредка били друг дружку щелчками по лбу, но без всякой злобы, а, очевидно, по правилам игры. Еще трое диких человечков сидели на полу неподвижно на поджатых ногах, как каменные истуканы, и не дремали, и не шевелились, и даже не взглянули на нее, когда она вошла.
– Ну вы, народцы, – обратилась Климовна к своим жильцам с своим любимым всегдашним выражением. – Будьте умники, я скоро вернусь.
На это не последовало никакого ответа. Только один старый, желтый и сморщенный карлик Филипушка, спавший в углу, проснулся, посмотрел на хозяйку бесстрастными глазами и перевернулся на другой бок, лицом к стене.
Климовна, наказав единственной, но зато громадного роста прислуге Марфе приглядывать за «народцами», быстрыми шагами делового человека побежала по переулку.
IX
Через полчаса вдова была на заднем крыльце большого барского дома, темного цвета, с белыми балконами, белыми колоннами и белыми ставнями.
– Доложите, голубчики, обо мне его превосходительству, – ласково сказала она попавшимся людям. – Скажите – по делу, насчет лошадки, уже Павел Дмитрич знает.
– Барин на дворе, – отозвался старший лакей.
– Ну, вот и хорошо, – ласково произнесла Климовна и шмыгнула вон из передней.
Действительно, около настежь растворенных дверей сарая, где виднелись экипажи, стоял, повернувшись к ней спиной, плотный человек, среднего роста, в простом нагольном, но очень опрятном и щегольском полушубке. Это был сенатор Павел Дмитриевич Еропкин[7]. С низким поклоном подошла Климовна к важному хозяину.
– Ваше превосходительство, честь имею кланяться. В добром ли здоровье?
Еропкин обернулся. Простое и доброе лицо сенатора, очень некрасивое, с толстым, неправильным носом, маленькими глазами и большим толстым подбородком, сразу, однако, выдавало человека прямого, добродушного и честного.
– А! Климовна, здравствуй! Ну, что? Зачем пожаловала? Замуж, что ли, собралась?
– Никак нет-с, ваше превосходительство, а вот вы изволили как-то сказывать, что конька ищете, так вот-с…
– Что ж, продаешь?
– Так точно. Хороший конь, здоровый и масть самая прекрасная, вся разная… Всех колеров.
– Ишь какой! – засмеялся Еропкин, – и гнед, и сер, и вороной – вместе. Любопытно… Я еще этаких коней не видывал.
– Отличный конь. Верьте слову. Не хочу зря божиться.
– И не краденый?
– Что вы, ваше превосходительство!
– То-то, Климовна, а то нехорошо, как если русского сенатора вместе с тобой за мошенничество в суд потянут. Нет уж, голубушка, что другое, а коня я у тебя не куплю. Извини, пожалуйста, не серчай. У тебя, поди, все краденое. Душа-то твоя и та, ей-Богу, полагать надо, краденая… Ты, голубушка, не сердись. Коли я с тобой по улице где пройду, так сейчас всяк честный человек подумает, что ты меня с чужого двора свела, слимонила и продаешь.
Климовна стала божиться, что конь ее не краденый, а купленный у госпожи Воробушкиной.
– Ну, эта барыня тоже тебе под стать. Была года с два тому ничего, а теперь, слышно, тоже стала промышлять тем, что плохо лежит без присмотра.
– Да ведь этот конь не ее, а собственно ее супруга, Капитона Иваныча Воробушкина; он продает.
– А, вот это другое дело! У него я куплю, но прежде видеть надо. Конем, прости, голубушка, отец родной родного сына радует. Таков российский обычай. Приведи его завтра да принеси цидулку от господина Воробушкина, что конь его, вот и куплю. А без цидулки и не ходи, потому что ты, извини, голубушка, первый вор на Москве и первый подлец. Извини, голубушка!
Все это говорил Еропкин самым ласковым и кротким голосом, держа руки в карманах полушубка, и только при последнем слове «подлец» вынул правую руку и прибавил убедительный жест, как бы ради того, чтобы скорее и лучше вразумить Климовну, что она действительно – баба-подлец.
Климовна, с своей стороны, нисколько не обиделась, так же ласково и почтительно раскланялась в пояс с сенатором и пошла со двора.
Выйдя за ворота, она пробурчала:
– Нет, этому не продать, а надо бы скорее продать. Надо будет объявить вместе с портным и с попугаем. А то ведь кормить приходится. Поколеет конь, Авдотья Ивановна со свету сживет, тогда еще не поверит, что околел. Хоть хвост ей тогда с палой скотины принеси для улики или всю падаль к ней вези на двор напоказ. Скажет – обворовала, продала, а деньги хочешь утаить. И Климовна, тем же быстрым шагом, почти рысью побежала по переулку.
Через пять дней по приезде Ивашки в Москву, около полудня, Авдотья Ивановна опять собралась одна вон из дому. Это случалось редко, Капитон Иваныч, сидевший за воротами на скамейке, увидя уходящую жену, покачал головой.
– Не знаю я твоей затеи, – проворчал он ей вслед, – но чует мое сердце, что добра не жди.
Авдотья Ивановна быстро обернулась, и Воробушкин ждал, по обыкновению, брани, но, к его величайшему удивлению, Авдотья Ивановна злобно поглядела ему в глаза, промолчала и, отвернувшись, ушла, ничего не говоря.
«И что она может затевать? – думал Воробушкин, оставшись один. – Продавать уж нам нечего, а на продажу последнего имущества я таки не дам моего согласия».
Не прошло получаса, как к воротам домика подошел плотный, несколько сутуловатый человек в офицерском мундире, очень засаленном и без шпаги. Красное лицо его и взгляд маленьких масленых глаз сразу не понравились Капитону Иванычу.
– Где тут живут, позвольте спросить, – заговорил он хриплым голосом, – господа помещики Воробушкины?
– Я сам он и есть, Воробушкин, – отозвался Капитон Иваныч, – чем могу служить?
– Да вот, извольте видеть, в ведомостях пропечатано… Вчера еще я хотел быть, да времени не было… – И отставной офицер полез в карман и достал аккуратно сложенный, немного запачканный, серый газетный лист «Московских ведомостей».
– С кем я имею честь разговаривать? – прервал его Капитон Иваныч.
– Прапорщик в отставке, Прохор Егорыч Алтынов.
Воробушкин, знавший всю Москву – и большую и малую, и важную, и серенькую, – никогда до тех пор не встречал прапорщика Алтынова. Но имя его было ему знакомо, и он помнил хорошо, что с этим именем соединяется что-то особенное и очень негодное. Благодаря своей замечательной памяти, Капитон Иваныч тотчас сам себе сказал, что он непременно, хоть через час да вспомнит, кто такой этот Алтынов.
Но когда прапорщик развернул газетный лист и указал то, что привело его в дом Воробушкина, то Капитон Иваныч слегка ахнул и позеленел лицом. Он прочел в объявлении: «На Ленивке, в третьем от угла доме, занимаемом господами, продается за излишеством, из себя видная и ко исправлению швейной и всяких работ способная девка 20-ти лет. Тут же можно известиться о продающемся портном, любопытном попугае и пегом мерине. Желающим покупать подает сведения сама госпожа».
«Так вот что! Вот она затея! – подумал он. – Улю продавать! Ладно… Авдотья Ивановна! Сначала мы похитрим, а потом уж если нельзя будет перехитрить, то посражаемся уже не языком и словами, а хоть до ножей дойдем».
Капитон Иваныч передохнул, успокоился на сколько мог и тотчас сообразил, что отказываться от объявления, сделанного женой, и спровадить Алтынова ни к чему не приведет. Он узнает впоследствии, в чем дело, и явится опять.
– Пожалуйте! – говорил Капитон Иваныч быстро и любезно и ввел гостя в горницы.
Затем он еще быстрее спустился в кухню, позвал Маланью, стиравшую целую кучу тряпья в корыте, и в двух словах объяснил ей все.
– Звать тебя Ульяна, а не Маланья; годов-то тебе больше, да стой на своем, что, мол, двадцать пять, и шабаш…









