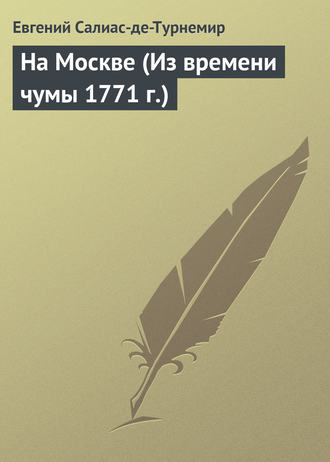 полная версия
полная версияНа Москве (Из времени чумы 1771 г.)
И тут, вдруг, чья-то рука хватает его, валит на землю, а народ кругом галдит и хохочет!.. Его разложили, порют, смеются. А она, намалеванная, будто живая, смотрит на позорище со стены.
И что же мудреного, что, после наказания, Ивашка опрометью бросился бежать с проклятого двора. И та злоба, которая сказалась в нем в первую минуту, до сих пор не могла остынуть. Долго просидел он так в углу людской, не смыкая глаз; наконец усталость взяла свое, он протянулся на лавке, закинул голову и крепко заснул.
Наутро он ждал, что приедет Барабин и разочтет его, но оказалось, что хозяина ждали только через сутки или двое.
За этот целый день Ивашка только мельком видел Павлу Мироновну у окна.
В сумерки он вышел за ворота, сел на лавочку и, все еще под впечатлением вчерашней обиды, начал уныло мурлыкать песню за песней.
Улица была пустынна; понемногу стемнело совершенно, но ночь была ясная, тихая и теплая. Ивашка, незаметно для себя самого, стал петь все громче и, наконец, затянул во все горло свою любимую, унылую, самодельную песню о том, как мудрено парню Антону жить на белом свете. Люди прозвали Антона порченым, а он не порченый, он хороший парень, добрый, сами люди ехидны и злыдни.
Ивашка прислонился к калитке, закинул голову и, глядя в ясное небо, выводил свою песню так жалостливо и так звонко, что забыл – и где он, и что делает, и что кругом…
И вдруг чья-то рука опустилась ему на плечо. Он пришел в себя, даже вздрогнул и ахнул. Перед ним стояла в меховой куцавейке сама Павла Мироновна. Он почувствовал, что это она, потому что разглядеть лица ее в темноте ночи было невозможно.
– Это ты? – странным голосом проговорила Павла. – Откуда ты знаешь? кто тебя выучил песням? Пойди сюда… Иди за мной!.. Иди наверх, ко мне…
И она двинулась по лестнице в горницу. Ивашка, смущенный, последовал за ней. Его смутило не то, что барыня зовет его к себе, а ее голос, ее лицо. Она будто перепугалась чего-то.
«Неужто, – думалось Ивашке, – с ней то же приключилось, что с одной молодицей было раз на деревне». Однажды спел он ей две песни, сидя у речки, тоже в сумерки, в жаркое лето. И после его двух песен молодица вдруг обхватила его обеими руками, расцеловала всего и убежала. А затем, шесть месяцев, все заглядывалась на него, покуда отец с матерью не выдали ее насильно замуж в соседнее село. Ивашка, конечно, понял тогда весь смысл этого приключения, и теперь, идя за Павлов Мироновной, он опустил голову, сердце его замирало и он думал:
«Неужто и с ней то же?.. Неужто от песни моей?.. Неужто она ласковее теперь глянет на меня?»
– Ах, Господи, страсти какие! – прибавил он чуть не вслух.
Они вступили в темную горницу. Павла взяла его за руку, повела за собой и проговорила тихо, странно, будто даже ласково:
– Смотри не оступись. Ты не знаешь, упадешь… Услышат…
Приведя Ивашку в дальнюю угловую горницу, Павла зажгла свечку и затворила дверь на задвижку.
Когда она обернулась и подошла к Ивашке, он невольно ахнул внутренне.
Лицо красавицы барыни было в тысячу раз краше, глаза в тысячу раз светлее, чуднее; будто не один огонь, а сотни огней горели в этих глазах. Ивашка почти впился глазами в красивое лицо ее. Она не смутилась от его взгляда, села на кресло, показала ему около себя другое место и выговорила:
– Садись. Тихонько только говори, чтобы никто не услыхал, узнают люди, что ты у меня здесь, могут сказать хозяину, и тогда беда будет… Избави Боже!.. Садись. Скажи мне, какая это песня? Про Антона? Откуда ты ее выучил? Такая хорошая… За сердце хватает. И как это ты не сказал, что поешь?
И Павла закидала Ивашку вопросами. Все, что спрашивала она, было очень просто, но голос ее, лицо ее были особенные. Они смущали Ивашку.
В тот вечер он просидел около часу у Павлы Мироновны. Узнав, что он умеет тоже рассказывать сказки и знает их кучу, Павла отпустила его, прибавив уже более спокойным голосом:
– Ну, уходи тихонько, чтобы не приметили. А завтра ввечеру уйди будто со двора, чтобы все так думали, а сам обойди по другой лестнице, где мы прошли, и приходи сюда. До ночи продержу я тебя здесь, и расскажешь ты мне все свои сказки! Хочешь?
Ивашка только вспыхнул, только глаза его блеснули сильнее.
– Ну, ступай, только тихонько…
И в этот вечер Ивашка, опять так же сидя в углу темной людской, снова глядел не сморгнув в тьму горницы. Но то чувство, которое переполнило теперь его душу, было не то, что вчера. Если бы была не ночь, если бы нашлась белая стена, если бы попался в руку уголек, то Ивашка опять принялся бы малевать, и опять ее же, с ее огненными глазами.
– Да, – прошептал Ивашка. – Околдовала! Совсем пропадать мне…
А Павла в это время сидела у себя в горнице, и песнь Ивашки, подслушанная ею, будто снова повторялась где-то там, на глубине души ее, и тайно, таинственно говорила ей что-то. Эта песнь будто говорила ей не про Антона, а совершенно иное. Она сказывала про красавицу молодую женщину, у которой лихой муж, злой, беспокойный, будто чужой человек, и с которым нет счастья и не будет никогда! А есть около нее другой парень – добролицый, сероглазый, и в глазах его есть что-то близкое и родное ее душе. В лихом муже нет ни капли этого любого, а в парне этом все любо, все будто за сердце хватает…
Среди ночи раздался вдруг в детской пронзительный плач ребенка и Павла встрепенулась, как бы пришла в себя и двинулась в комнату своего сына.
– Да… да… Уйти от этих мыслей грешных! – с горечью воскликнула она. После всякой ссоры с мужем, равно после всякого случая, который смущал ее сердечный покой, она проводила целые дни в детской, играя с своим полуторагодовалым мальчуганом. Когда же она успокаивалась нравственно или когда муж ее был ласковее, менее ревновал ее, она, с своей стороны, меньше занималась ребенком.
Две мамки, приставленные к ребенку, давно заметили, что барыня как загрустит, так сейчас безвыходно сидит у них в детской. Павла сама смутно сознавала, что если бы она была вполне счастлива, то, может быть, относилась бы к ребенку несколько хладнокровнее. Слепой, бессознательной любви, чисто материнской, у нее к малютке не было.
После вечера и беседы с Ивашкой и после плохой, бессонной ночи Павла рано утром была снова в детской и вплоть до обеда не спускала ребенка с рук.
Одна из мамок, самая умная, Сидоровна, невольно подумала про себя: «Должно быть, ночь-то прогоревала» вот и пришла!» Но почему барыня могла ночь прогоревать, Сидоровна на этот раз не понимала, так как главной и всегдашней причины горя, т. е. хозяина, не было теперь дома.
После обеда Павла обошла весь дом, будто бы ради хозяйственного присмотра. Она сама себя уверила, что нужно пройти везде, поглядеть, все ли в порядке. Но, в сущности, в ней было смутное, тайное желание заглянуть в людскую, повидать добролицего Ивашку, что накануне вечером так смутил ее.
С странным чувством вошла она в людскую. Ивашка сидел на лавке и строгал какой-то колышек. Он встал при ее приближении и поклонился. Павла быстро, но пытливо глянула на него каким-то странным взглядом. Она будто рассматривала его, будто сравнивала во вчерашним Ивашкой, но тотчас же отвернулась и прошла мимо, не сказав ему ни слова.
«Вздор какой померещился мне вчера», – думала Павла, ворочаясь к себе в горницу.
И при этом она тяжело вздохнула. Ей будто жаль стало чего-то, будто она что-то потеряла, будто обманули ее…
Однако вечером, увидя Ивашку на дворе, глядящего к ней в окно, она поманила его в дом. Ивашка сказал тотчас Пелагеюшке, что уходит со двора, и, выйдя за ворота, опрометью, но осторожно, не стуча, взбежал по лестнице. На этот раз он был смущен донельзя. Павла, точно так же, как накануне, провела его в свою угловую горницу и усадила.
– Ну, рассказывай мне сказку, – шепотом вымолвила она, улыбаясь.
– Какую?
– Да получше.
– Какую прикажете?..
– Сам лучше знаешь, я не знаю.
Ивашка уселся на ножной скамеечке, близ лежанки. Павла села невдалеке на своем кресле, близ стола, где горела свеча, оперлась на руку и снова пытливо, внимательно, будто соображая что-то, стала глядеть на сероглазого малого.
«Все пустое, привередничанье одно!» – думала она, будто отвечая себе самой на какой-то неотступный вопрос, смущавший ее.
Ивашка, сидевший на низкой скамеечке, чуть не на полу, опустил голову и уткнулся лицом в руки. Он всегда делал так, прежде чем начать рассказывать. Обыкновенно он всякому объяснял это по-своему:
– Вспомнить надо! Сразу-то не упомнишь, что сказывать…
Но, в сущности, Ивашка, говоря это, обманывал и себя и других. Парню надо было забыть, где он, что он, кто он. Закрыв лицо руками, он уносился мыслями в иной мир, чуждый окружающему, и в эти минуты перед его закрытыми глазами восставали те серебряные, золотые и яхонтовые царства, где живут и действуют разные витязи, Жар-Птицы, Царевны-Красоты, Кони-Шестикрылаты, Иванушки-Дурачки и иные молодцы-удальцы. И когда через несколько мгновений раздавался его тихий, мерный голос и звучали первые слова сказки, то голос этот был уже иной, не парня Ивашки, а какого-то другого человека. Если бы Ивашка рассказывал о Жар-Птице или об Алмазной Царевне своим голосом, то никогда бы никто не поверил всему тому, что он сказывает, и все повествуемое им обозвал бы народ враньем, да и слушать не стал.
Но тому голосу, который начинал звучать вдруг в горнице, в избе, особенно зимой под завыванье вьюги, невольно верил всякий. Тут не было парня-болтуна, тут был особый, удивительный человек, вещатель, сказывающий про удивительные и чудные дела, сказывающий тихо, медленно, нараспев, и зачастую в речи этой, что бурчит и поет, словно ручей, слышались, чуялись и радость, и горе, и восторг, и слезы!..
Начинал сказку парень, закрыв лицо руками, а затем руки сами собой упадали, будто в бессилии или как ненужные, вся жизнь сосредотачивалась в лице, в голосе. Затем долго говорил он глухо, не поднимая глаз от пола. И понемногу, тогда лишь, когда Иванушка-Дурачок или Бова-Королевич начинали действовать, Ивашка постепенно выпрямлялся, опущенная голова поднималась, даже закидывалась назад, и он смотрел уже во все глаза, но не на тех, кто его слушал, а мимо их, будто туда, где видит он все то, про что вещает.
И тогда слушатели начинали внимать Ивашке, затаив дыхание и веря глубоко в истину того, что он рассказывает. Да и как было не верить? Только взглянуть в лицо парня, приглядеться к его глазам, и поневоле поверишь; прислушаться к его голосу, и почуешь, что он правду сказывает.
На этот раз, когда Ивашка сел, опустил голову и закрыл лицо, наступило мертвое молчание в небольшой горнице Павлы, где тускло горела на столе свеча.
Не поняв, зачем парень сидит, опустив голову и закрыв лицо, Павла так же, как многие, спросила:
– Что же ты? Рассказывай…
Но Ивашка молчал, он не слыхал вопроса. Через несколько секунд Павла снова повторила его, он снова не слыхал, и она догадалась, что он собирался с мыслями.
Прошло несколько минут, и Павла, среди затишья и сумрака горницы, задумалась и невольно забыла об Ивашке. Но вдруг она встрепенулась. Прозвучали первые слова какой-то другой речи. Это не парень-суконщик заговорил.
Когда же через несколько минут Ивашка поднял голову и взглянул мимо Павлы куда-то в темный угол, то лицо красавицы оживилось и будто молния пробежала по нем, мелькнула и вспыхнула зарницей в глазах у нее. И она пристально впилась огневыми глазами в его, уже не добродушное, а восторженное и загадочное лицо.
С этого мгновенья Павла с каким-то сладким замиранием сердца прислушивалась к этому голосу, вглядывалась в это вдохновленное лицо. И женщина, земная доля которой была так тяжела и горька, тотчас же могучим взлетом умчалась помыслами за Ивашкой в то далекое царство, не наше государство, за тридевять земель, за моря-окияны, где живется люду гораздо легче, где все счастливы, где нет холода и голода, где нет горя, где во всем удача, где глупый и слабый не обижен, где по одному его слову являются к нему на помощь всемогущие чародеи-заступники. Беда ли какая приключится е добрым молодцем или найдет на него просто стих покуражиться и свистнет он громким посвистом или кликнет звонким голосом:
«– Повернись-обернись, стань передо мной, как лист перед травой!»
И летят на зов и Ковер-Самолет, и Конь-Шестикрылат, и сама Жар-Птица… и дают ему все!.. Все, чего нет в нашем государстве!..
Прошло много времени. Свеча нагорала все более, едва освещая горницу. Надо было давно взять щипцы и снять нагар, но ведь Павла за тридевять земель от этой свечки и этой горницы.
Ивашка среди тишины в доме и на улице мерно, однозвучно, страстным полушепотом рассказывал свою сказку, рассказывал, будто пел, а Павла недвижно сидела, опершись на стол локтем, застыла всем существом, замерла всем сердцем…
Наконец вдруг точно будто что-то оборвалось, или упало, или рассыпалось в прах! Случилось что-то особенное. Павла вздрогнула, двинулась… Ничего не случилось! Это Ивашка кончил и смолк.
Очарованье исчезло, и снова парень и красавица барыня упали из Золотого Царства на землю, очутились в горнице, где нагорела и коптила свеча. Ивашка сидел недвижно, молчал, по-прежнему глядел задумчивыми глазами на пустую стену. Будто он еще видел там многое и многое, что стушевывалось и исчезало понемногу, уходя во тьму ночи.
Павла глядела ему в лицо и, вдруг, в свой черед, тихо закрыла лицо руками, и наступило гробовое молчание.
Ивашка первый пришел в себя, поглядел на красавицу барыню и наконец выговорил:
– Ну что же, полюбилась вам сказка?
Голос его был уж другой, и в словах уже не звучало того, что было за несколько мгновений назад. Это был опять деревенский парень, с Суконного двора.
Но Павла вдруг порывисто отняла руки от лица, подняла голову; глаза ее были влажны и губы сжаты, будто стиснуты в судороге. Ничего не было общего между сказкой и ее жизнью на свете, а между тем еще тяжелей, еще безотраднее и мучительнее показалась ей ее судьба.
Ивашка поднялся с своей скамеечки, и это движение будто испугало Павлу. Она откачнулась на спинку кресла и выговорила боязливо:
– Уходи!.. Уходи! – И, одумавшись, она прибавила: – Спасибо… Завтра… Уйди!..
Ивашка ничего не понял, слегка обиделся, но подумал:
«Видно, так нужно!.. Может быть, она хозяина ждет».
Он двинулся тихо к двери, но, отворяя ее, невольно обернулся.
Павла следила за ним глазами. Ее огневой взор, словно как луч света, пронизывал полусумрак горницы. Она кивнула ему головой, как-то невесело улыбнулась, будто через силу, и проговорила неестественным голосом, будто насильно, будто обманывая и себя, и его:
– Спасибо. Хорошая сказка!.. Ну, ступай, спать пора…
И все это вышло как-то чудно, даже Ивашка понял, что тут дело нечисто! Какой теперь сон!..
И парень, еще более взволнованный, смущенный, чем накануне, вернулся в тот же угол людской. А Павла тотчас пробежала в комнату ребенка и хотела было взять его на руки из люльки, будто хватаясь за него, как хватается утопающий за соломинку. Она уже протянула руки к люльке, и вдруг словно что-то остановило ее, не дозволяя трогать младенца.
Женщина порывисто повернулась и снова быстрыми шагами пошла к себе, села к окну и прислонилась лицом к холодному стеклу.
Много ли прошло времени, она не помнила, но вдруг на дворе раздались шаги, позвякивали бубенчики. Павла схватила себя за голову и выговорила:
– Ах, Господи…
Казалось, теперь только наступила для нее действительность.
Вернулся муж! И никогда, ни разу не случалось ей встречать мужа так, как теперь. Если бы была не ночь, то она бросилась бы по другой лестнице вон из дому и убежала к отцу или в церковь, чтобы отсрочить свое свидание с мужем хоть на один час, хоть на несколько минут. Как дорого дала бы она, чтобы не видать теперь Барабина и пожить до утра с теми мыслями, с тем сладким чувством, которые навеяли на нее и сказки, и голос, и лицо чудного, порченого парня.
VII
Барабин, как всегда после разлуки, хотя краткой, несколько раз принимался целовать жену и расспрашивал, как она провела время, не скучала ли. Жизнь Павлы при нем и в его отсутствие была так однообразна, что вопрос этот был совершенно излишний. Барабину подали поужинать. Павла села около мужа, прислуживала ему.
В первые минуты Барабин весело болтал и рассказывал про смешной случай, бывший с ним около Коломны. Но вдруг он пристально глянул в лицо жены, замолчал и, прервав свой рассказ на половине, опустил глаза в тарелку и замолчал как убитый. Слишком хорошо знал он жену, чтобы не подметить в чертах лица ее остатка того, что пережила она несколько минут назад. Барабин был поражен. Прежде, когда казалось ему иногда что-либо странным в доме, в поведении жены, ее лице, то он, в сущности, чувствовал, что кажущееся только сомнительно. Теперь подозрение было действительно, основательно. Просидев несколько минут не спуская глаз с тарелки, он мысленно уговаривал, утешал себя:
«Пустое… вздор… опять лукавый смущает…»
Через несколько секунд он снова поднял глаза, снова взглянул на Павлу, и что-то дрогнуло в нем. Павла сидела, устремив глаза в темный угол столовой. Она не только задумалась глубоко, но как будто застыла от той мысли, что была в голове ее и просвечивалась в отуманенном взоре. Она не только забыла мужа тотчас по возвращении, но, казалось, забыла весь мир Божий. Вся она была одна мысль.
«Какая? что?» – дрожью возник вопрос в Барабине.
– Павла!.. – выговорил он.
Женщина вздрогнула всем телом, опомнилась, взглянула на него и вспыхнула. Все лицо ее покрылось ярким румянцем не столько от смущения и стыда, сколько от боязни.
Муж глядел на нее, но ничего ее спрашивал. Лицо его спрашивало, и Павла сама невольно ответила:
– Нездоровится как-то…
Но не только Барабин, но сама она слышала, что в ее словах ясно звучит ложь, к которой она не привыкла.
– Застудилась… – выговорил Барабин.
И в голосе его послышался тот звук, который предшествовал всегда вспышке. Павла молчала.
– Не выходила бы за меня замуж, то не застужалась бы эдак… – дико усмехнулся вдруг Барабин.
Павла знала, что гроза надвигается, что будет сейчас одна из семейных бурь. Но теперь она чувствовала в себе силу для отпора. В первый раз в жизни, и почему? Потому ли, что она была виновата?
Вот об этом-то она и задумалась. Мысль эта поразила ее. Каким образом прежде, будучи совершенно не повинна ни в чем, она выдерживала эти угрозы и бури молчаливо, покорно, а теперь она всем существом смело готовилась встретить эту бурю именно потому, что чувствовала себя виноватой.
Бог знает, что произошло бы, если бы не появилась вдруг в комнате горничная доложить, что пришел с докладом Кузьмич.
Барабин, не доужинал, велел собирать со стола и вышел в прихожую. От Кузьмича узнал он о важном событии на фабрике, заключавшемся в том, что в отсутствие Барабина приезжал сам Мирон Митрич, распушил всех за то, что хоронят народ на дворе без священника, а затем приказал высечь нового приказчика Ивана.
Барабин, озлобленный на жену, излил злобу на тестя.
– Кто ж приказывает хоронить так? Он же, старый… недоумок.
Но через несколько секунд Барабин забыл о тесте, потому что Кузьмич сообщил ему другое известие, по-видимому, пустое, но сразу поразившее Барабина.
Кузьмич объяснил, что Ивашка после наказания немедленно скрылся с Суконного двора самовольно и что он считал его пропавшим без вести.
– И вот только сейчас, туточки узнал, – прибавил Кузьмич, – что он у вас в дому укрылся.
У Барабина на сердце закопошилось что-то и росло с жаждой секундой. Он сам говорил, что в эти минуты будто сатана влезет в душу и начнет на грех толкать, чтобы в Сибирь угнать. И теперь это чувство вдруг заклокотало в нем, но он едва слышно произнес:
– Ивашка здесь, говоришь…
– Здеся, Тит Ильич, третьи сутки…
– Теперь где?.. – еще тише спросил Барабин.
– Да здесь, в людской.
Барабин опустил голову и молчал как убитый. И только Кузьмич заметил, что он как будто тяжелей дышит.
– Иди за мной… – глухо выговорил Барабин и пошел в столовую.
Павла, сидевшая у того же стола и слышавшая весь разговор мужа с Кузьмичом в прихожей, отвернулась от вошедшего мужа и отвела глаза.
Барабин исподлобья, вскользь, глянул в лицо ее и понял, что она все слышала. Действительно, лицо Павлы изменилось за несколько секунд. Трудно было уловить, что происходило в чертах лица ее, но что-то неуловимое пробегало по нем, как пробегает чья-либо тень по земле.
Барабин сел и приказал тихо женщине, уносившей последнюю посуду, позвать Ивашку. И в горнице наступило гробовое молчание, покуда за дверями порога не раздались едва слышные, нерешительные шаги.
– Войди… – громче выговорил Барабан, не двигаясь с своего стула.
Ивашка показался на пороге. Зорко, пытливо глянул на него Барабин, уперся глазами в добродушное, прямее лицо парня и, невольно удивившись, едва слышно вздохнул.
Лицо Ивашки было так спокойно, взгляд серых глаз так честно прям, так прост, что, очевидно, он не знал за собой никакой вины. Барабин, за секунду окончательно решившийся на грубый, прямой допрос двух виновных при постороннем лице, при простом приказчике с фабрики, смутился и в нерешительности молчал.
– Как смел ты самовольно уйти со двора? – выговорил он. А между тем на душе его будто звучал совсем другой вопрос: «Весело ль тебе было с чужой женой?»
Ивашка просто, отчасти наивно, объяснил всю обиду от Мирона Митрича и желание больше не служить на Суконном дворе.
– Стало быть, желаешь чтобы тебя рассчитали и отпустили?
– Точно так-с.
Барабин вдруг захохотал так, что Павла, Ивашка и даже Кузьмич слегка вздрогнули.
– Хорошо… завтра поутру я тебя рассчитаю на дворе. Припаси попа, Кузьмич. Малый чахлый, не силен, может от моего расчета тут же и подохнуть. Слышишь?..
– Слушаюсь, – выговорил тихо Кузьмич.
Ивашка слегка побледнел. Павла, силившаяся вполне овладеть собой, все-таки едва заметно шелохнулась на своем стуле, и зоркий глаз Барабина, конечно, заметил это.
– Да… – как-то странно, злобно и в то же время будто задумчиво выговорил Барабин, глядя в пол и будто говоря себе самому. – Да… я тебя рассчитаю. Завтра… в эту пору, коли не будешь на погосте, так почитай – еле жив…
– За что же? – вымолвил Ивашка.
И голос его задрожал, но не от испуга. Ничто так страшно не действовало на парня, как несправедливость, не только к нему самому, но даже и относительно других. Тот же огонь, который вспыхивал в душе Барабина от ревности, вспыхивал и в Ивашке, когда поражала его какая-либо явная несправедливость.
Барабин не отвечал и молча глядел в лицо парня. И несмотря на смущение, Ивашка снова увидел вдруг перед собой того намалеванного сатану, на которого был Барабин так похож. Ивашка оробел. Он глубоко поверил в эту минуту, что это если не сатана, то и не человек такой же простой, как он сам или Кузьмич.
Барабин встал, прошел в нескольких шагах мимо Ивашки, кликнул горничную и велел позвать кучера и дворника. И покуда женщина ходила за ними, снова наступило мертвое молчание в горнице.
Когда мужики появились, Барабин тихо приказал взять парня, связать и запереть в чулане, где обыкновенно сажали пред наказаньем сильно провинившихся на Суконном дворе, дабы они не могли бежать. Барабин запирал их у себя на дворе и ключ брал к себе.
Ивашка, мысленно надеявшийся на возможность побега тотчас, хотя бы через ворота или через забор, понял вдруг безнадежность своего положения.
– За что же!.. что я сделал, говорю я вам… что я сделал!.. – воскликнул Ивашка, затрепетав всем телом и невольно оттолкнув от себя дворника, который взял его за плечо.
– Веди!.. – крикнул Барабин.
Но в ту же минуту произошло в горнице то, чего никогда не бывало в ней.
Парень Ивашка, чудной малый, ни на что не годный, порченый, то марающий по заборам углем, то поющий самодельные песни, то рассказывающий длинные, чудные сказки, то зевающий по целым часам на облака, на звезды, вдруг преобразился. Куда девалось доброе лицо, куда девались чуть не глупые, серые глаза. Бледный как смерть, дрожащий, задыхающийся, парень заговорил вдруг каким-то другим, будто чужим голосом. Слова его рвались на части, некоторых нельзя было разобрать. Но если Барабин не понял половину слов, то понял сразу, с кем имеет дело.
«Если такого резать, то надо дорезать, а то сам зарежет!..» – подумал бы всякий прозорливец.
Но вместе с тем подозрения Барабина еще более усилились. Парень, дурашный на вид, способный так преобразиться, был действительно еще подозрительнее для ревнивого мужа.
– Бери!.. веди!.. – крикнул Барабин и встал с своего места.
– Не тронь!.. убью! – крикнул другой голос в горнице, и никто не поверил, что это кричит парень Ивашка.
И в одну секунду малый, как кошка, бросился в противоположный угол, схватил стоявшую у притолоки кочергу и взмахнул ею так, что она просвистала по воздуху, как кнутовище.









