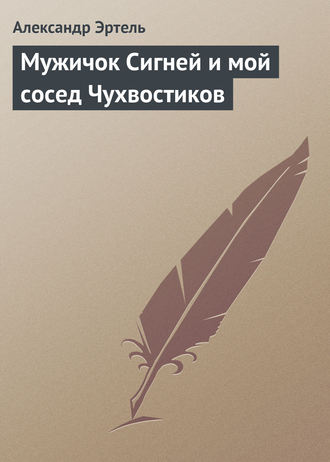 полная версия
полная версияМужичок Сигней и мой сосед Чухвостиков
Я спросил Сигнея, где он пахал. На своем поле мне не случалось его видеть.
– Хе-хе, – приятно осклабился Сигней, – тут я тебе услугу сделал, Миколай Василич… Это уж как есть – услужил… Сват у меня есть, в Россошном, Григорий, – помнишь, может? (Я помнил Григория; раз, во время вьюги, он провожал меня к одному знакомцу.) Ну, вот!.. Своячина-то его за моим малым будет, за Митрошкой… Вот мы и сваты… По-нашему, по-мужицки это… Он, сват-то… ну, не похвалюсь я им… что уж!.. (Сигней снисходительно засмеялся.) – Плоховат он, сваток-то мой… Это уж правду надо сказать – плоховат…
– Ты что же, пашешь, что ль, за него? – спросил я, вспомнив, что Григорий снял у меня под яровое две десятины земли.
– За него, Миколай Василич, за него, – одобрительно пропел Сигней, где уж ему, сватку-то, осилить, ну, я за него и стараюсь… Все кабыть не чужой… Да и тебе-то, признаться, послужить хотел, наслышаны мы про тебя-то, – он ласково заглянул мне в глаза.
– Мне-то какая тут услуга? – удивился я.
– А ка-ак же, – торжествующим тоном протянул Сигней, – ведь он убогий человек, сваток-то мой, Григорий-то… Ему не токмa что сымать – впору с своей душевой управиться, с земелькой-то… Ну, я его и ослобонил… Это прямо надо сказать – ослобонил… А то двадцать шесть целковых!.. Где ему… Бедняйший человек-то он, – сожалительно пояснил мужичок Сигней.
– Ты, стало быть, переснял у него землю-то?..
– Вызволил, Миколай Василич, вызволил… Что ж, бог с ним… пущай… Да и тебя-то, признаться, пожалел… Что, думаю, барину с ним вожжаться… Чего с него взять?.. Тут не то с ним хлопочи, не то с своими делами справляйся… Делов-то у вас не нам чета!.. Нам что? – Поработал денек-то, да и завалился спозаранку… А тут все подумай да приспособь: как, что… куда какую вещию произвесть… Мы ведь это тоже можем понимать! Другой вон скажет – жисть барину-то!.. А поживи-кось!.. У тебя сколько земли-то? спросил он у меня.
– Четыреста десятин.
– Вон! – с почтительным удивлением протянул Сигней, – легко вымолвить!.. Управься-ко с ей, с хaзиной-то{2} с эстой… Произведи ее в дело!.. А нашему брату дураку что? – Знай соху да борону… Ах, грехи, грехи! – Он опять сокрушительно вздохнул и помахал головой.
– Теперь вот хошь покос взять… Мало его нешто у тебя? (мужичок Сигней вопросительно и участливо заглянул мне в лицо), – а тоже ведь надо и его устроить… Я все так-то думаю, думаю, – вот и барин!.. не легко тоже… Оно, пожалуй, раздай его, покос-то, нешто не раздать?.. Тоже много таких, как сваток-то мой… А опосля и собирай!..
– Разве Григорий-то плутоват? – спросил я.
– Бедность-то его, барин, зашибла-а… Куда уж ему плутовать!.. Иной раз и рад бы по-чести, да ничего не поделаешь… Деться-то некуда… Ведь вот об троице тебе платить десять рублев, за земельку-то… Ну, где ему?.. Я-то, по благости господней, пока бог грехам терпит, смогу… А ему и тяжко.
– У меня застой не будет, – заговорил он после непродолжительного молчания, – хоть сейчас получай… Я ему и сказал: ну что ты, мол, сват, барина-то будешь гневить… Он ведь, барин-то, как ни то – пригодится… В гнев-то его вводить тоже не след… Ну и вызволил!.. Что уж… По душе!.. Пущай…
Мужичок Сигней с великодушнейшим видом махнул рукой и затем совершенно неожиданно добавил:
– А ты уж покосец-то у Яркиной окладииы уважь мне… Я уж тебе заслужу… Травка-то там хоша и не важная, ну, да нам, по мужицкому нашему обиходу, сойдет… Больше все ковылoк там-от… Дай бог, копен на двадцать!..
Покосец у Яркиной окладины никогда не давал меньше пятидесяти копен. Я сказал, что подумаю.
– Это отчего не подумать, – одобрительно протянул мужичок Сигней, подумать – первое дело… Только уж, Миколай Василич, ей-богу, без обиды… Думаю – как заехал я к тебе, вызволил из земельки-то эфтой, сватниной-то, так заодно уж… послужу… А мне кстати бы – близко покосец-то к посеву… Та-ак рядышком. Ты, может, видал?.. Как, поди, не видать… Ты чтой-то не больно барствуешь-то!.. Я позавчера куда тебе рань какую на рассев-то поднялся, а ты уж по полю-то бродишь… Это уж прямо надо сказать – хозяин!
Надо сообщить читателю, что одна из самых зазорных моих слабостей это страсть поспать… Хозяин я тоже плохой – сонливый и ленивый…
Уха уже несколько раз кипела, и Михайло объявил, что ее скоро надо есть. Анна притащила хлеб и посуду.
Над нами висела уж настоящая ночь, которая казалась очень темною от огня, острыми языками лизавшего стенки огромного чугуна с ухою. На траву ложилась едва еще заметная роса. Прудок походил на громадную лужу чернил, окрашенную от берега багровым заревом нашего костра. Млечный Путь опоясал черный небосклон, звезды сияли уже не робко и трепетно, а с какой-то торжественной ясностью. С поля доносились задорные перекликанья перепелов. В неподвижном камыше что-то едва слышно шуршало. Влажная свежесть пропитывала воздух. Пахло водою и какой-то приятной затхлостью.
Я отправился в дом за папиросами и, воротившись к берегу, застал уху уже налитую в огромную чашку. Андрей Захарыч, наконец, вышел из своей странной задумчивости и вел с Сигнеем разговоры. Сигней солидно и не спеша уплетал уху. Михайло с какой-то ретивостью подсоблял ему.
Я сел поодаль от них и закурил папиросу (ухи мне есть не хотелось). Чухвостиков трактовал о вороном жеребце, купленном крутоярским батюшкой, отцом Вассианом.
– Ну, пастырь он, положим-с… По писанию ежели… – говорил Андрей Захарыч.
– Это уж ты как есть, – подтверждал Сигней, тщательно откусывая хлеб от огромнейшего ломтя и бережно отряхая этот ломоть над ухою, – знамо пастырь… Наставлять чтобы…
– Да… наставлять… – задумчиво произнес Андрей Захарыч, и затем оживленно добавил: – Теперь – жеребец, возьмем жеребца…
– Что ж – жеребец?.. Сто два целковых – цена небольшая… Так ежели будем говорить: четырехлеток он…
– Четырехлеток.
– Ну, продержит он его с год…
– С год…
– А там, глядишь, повел его в Толши…[2]
– Монахи тоже! – язвительно воскликнул Андрей Захарыч и, не дав кончить Сигнею, вдруг горячо и часто заговорил: – Вот я и утверждаю-с… ну, пастырь он… Пример ему подобает подавать иль нет-с?.. Печаловаться, так сказать… чтоб души ежели… Потому, как ни говори, христианские они, крещеные… Наблюдение-то за ними надобно-с, за душами-то!.. Ну, а он жеребца теперь… Ты говоришь, вот, – в Толши… Это мне повесть аль тебе там, ну так… Потому мы – миряне…
– Это уж как есть, что миряне, – довольно безучастно отозвался Сигней.
– Да… Ежели молебен, ну, свадьба там – это его… Это ему надлежит… Но не ежели жеребца-с… Потому, что же это такое, скажите на милость? – пастырь и… жеребец!..
Андрей Захарыч окинул Сигнея укоризненным взглядом, после чего тот поспешил ответить:
– Уж это что!.. известно – непорядок… Жеребец – ему холя нужна… Тоже зря-то всякий бы сумел… Купил да и поставил в хлевушок… Нет, а ты его наблюди-и!..
– Наблюди? – неуверенно произнес Андрей Захарыч, по-видимому слегка опешенный неожиданным оборотом разговора.
– А то как же! – как бы увлекаясь, воскликнул мужичок Сигней, – а ты думал, зря как?.. Нет – погодишь!.. С ей, с скотиной-то, тоже надо умеючи…
– Надо умеючи, – как-то тупо подтвердил Чухвостиков, почему-то тоже впадая почти в восторженный тон.
– Ну, а попу с эстим недосуг, священнику то ись, – продолжал Сигней, вот ежели ты, барин, заведешь коня-то – это так, это к делу… Потому человек ты сло-бодный, умственный… порядки знаешь… И по хозяйству все: как напоить, как овса засыпать аль резки… Чего тебе!.. Есть лошадки-то в откорме? – участливо докончил он свою реплику, окидывая заискивающим взглядом Андрея Захарыча.
Михайло подбросил дров на то место, где варилась уха, и костер весело затрещал, вмиг охватываясь сплошным огнем: дрова были очень сухие.
– Есть – трехлеток, – с довольным видом ответил Андрей Захарыч, по-видимому очень польщенный комплиментами Сигнея.
– Вот ишь! – одобрительно заметил Сигней, – битючок?
– Битюк.
– А где купил-то?
– В Мордове.
– Небось уж сам покупал-то, дорого не дал?.. Ишь, барин-то не промах… Не обойдешь его… – снисходительно посмеивался Сигней, весь как бы проникнутый каким-то почтительным уважением к особе «непромаха-барина». Чухвостиков горделиво улыбнулся и важно приподнял брови.
– Недорого, – пренебрежительно проронил он, – семьдесят пять…
– В Толши поведешь?
– Туда.
– Эх, время-то многонько еще, – завздыхал Сигней, – почитай целое лето кормить-то!.. Овса одного, поди, прорва выходит. Уж я это знаю… Знаю я эту канитель-то… Тоже случалось, выкармливали… А овес-то! – три рублика анадысь на базаре…
– Свой у меня, – немного разочарованным тоном ответил Андрей Захарыч.
– Это иное дело!.. Известно, ежели деньги на выручку, продал его по три-то рублика… А уж коли не к спеху… – это ничего… Можно и жеребчиком потравить, можно… Все, глядишь, выручит к осени-то… Рублика два выручит, поди, за четверть-то? – бесхитростно спросил Сигней, и сам же ответил: – Как, поди, не выручить…
– Неужель три рубля овес-то? – совсем уже разочарованно спросил Чухвостиков, с явным признаком душевной истомы в голосе.
– Три рублика, три… Об этом что говорить… Десять с полтинкой, значит, будет, ежели по-старому, – на сигнации… Да-а, дорого-онек!.. Сигней участливо чмокнул губами и, обтерев ложку, отложил ее в сторону.
Появилось другое блюдо – вареная рыба.
Чухвостиков положительно затуманился. Я и забыл сказать, что он был-таки скупенек. Теперь его, по всей вероятности, мучила невозможность продать по хорошей цене те десять-пятнадцать четвертей овса, которые нужно было удержать для жеребца. Впрочем, мужичок Сигней не долго держал его в таком состоянии; задумчиво и печально съев две-три рыбки, он вдруг поднял голову и, с сожалением взглянув на Андрея Захарыча, благодушно произнес:
– Аль уж выручить тебя, барин?.. Уж одно к одному… Господа-то вы хорошие!.. Теперь Миколая Василича вызволил, уж и тебя… Нам бог пошлет… Найпаче по душе старайся… а уж там… (Сигней не договорил, что «там», но с молодецкой пренебрежительностью махнул рукой) куплю я у тебя жеребчика-то, куплю… Хорош барин-то!.. Видно, уж надо ослобонить… Завтра прибегу, посмотрю… Не горюй… Я уж вызволю, не таковский человек… Мы еще, слава богу, покамест бог грехам терпит – в силе…
Андрей Захарыч сразу просветлел и как-то изумительно обрадовался. Я даже удивился этой сильной радости. Верно, ему уж до жадности захотелось тех трех рублей за четверть овса, которые, по словам Сигнея, охотно платят на базаре.
– Бач-к-а! – послышался с хутора грубоватый, немного охрипший голос.
– Митроха-а! – откликнулся Сигней.
– Где ты?
– Подь сюда-а!
– Ты уж, Миколай Василич, дозволь малому ушицы-то похлебать, обратился ко мне Сигней, – тоже сын ведь… Грубоват хошь парень-то, а все сын…
Я, конечно, дозволил «грубоватому парню» похлебать ушицы.
Митроха имел большое сходство с отцом, но сходство это ограничивалось только одной наружностью: он был такой же низенький, такой же коренастый и щекастый, у него были такие же маленькие, прищуренные глаза и насмешливые губы… Но отцовского духа, – духа лицемерия и лжи, не было заметно в его красивых чертах. Глаза его глядели не умильно и ласково, а вдумчиво и строго, на губах играла не подобострастная улыбка, перемежаемая лукавой насмешливостью, а одна только жесткая ирония. И речь его, в противоположность речи отцовской, не изобиловала мягкими тонами. Она была груба, безыскусственна и – что мне показалось тоже странным – даже дерзка, когда обращалась к отцу или ко мне с Андреем Захарычем.
Никому не поклонившись, он сел за уху.
– Купил палицу-то? – спросил его отец.
– А то как же! За ней ездил – стало быть, купил, – нехотя ответил Митроха.
– Стальные есть? – осведомился я.
– Всякие есть. По деньгам…
– Что, говорят, в Лущеватке дьячок погорел? – полюбопытствовал Андрей Захарыч.
– А я почем знаю? Може и погорел…
Сигней сокрушительно развел руками и сладко произнес, как бы извиняясь перед нами:
– Грубоват он у меня, грубоват, господа поштенные…
– Не стать лебезить по-твоему, – буркнул Митроха.
Сигней только покачал головою и немного погодя ушел. Чухвостиков прозяб и тоже пошел в дом. Я остался докурить папироску.
– Эка отец-то у тебя добряк какой? – сказал я Митрофану.
– Добёр! – иронически ответил он, – привык в бурмистрах-то лебезить…
– Нешто он был бурмистром?
– Как же! Когда еще барские были, он пять лет ходил в бурмистрах… Так и пропадал в барских хоромах… Добёр!.. Теперь вот ему лафа-то отошла – барин сдал именье-то!.. А то, бывало, бесперечь к нему шатается – чаи распивать…
– А ты, должно, не любишь отца-то? – засмеялся я.
– Любить-то его не за что, – угрюмо ответил Митроха, – из-за него и так на миру проходу нет… Уж он всем намозолил глаза-то… Это еще, спасибо, у нас народ-то в достатке, в двориках… А то бы он покуражился!.. И то, никак, по окрестным селам должников завел… И диви бы чужие… Вот свата Гришку как околпачил!
– В земле? – спросил я.
– Вот в твоей-то. Ты ему сдал по тринадцати целковых, и чтоб десять рублей об троице… Чего еще! по нонешнему времени какая это цена… Так нет, батя-то мой и тут его принагнул… Задатку тебе Григорий четыре целковых отдал, так это уж от бати пойдет… А свату ничего!
Я просто руками развел.
– Да как же он все говорил – «вызволил, вызволил»?..
– Вызволит, как же, дожидайся!.. Таковский – чтоб вызволил…
– Ну, тебе, стало быть, не по нраву, что отец-то твой все норовит денег побольше зашибить? – спросил я Митроху.
– А что мне в ней, в деньге-то!.. Кабыть нас много – я да он… По мне, абы с миром жить в ладу… А обижать-то так тоже не приходится… Я уж к ему приставал – отдели, мол… Не отделяет!.. Я, говорит, для тебя… А мне все равно как наплевать!.. Мужик – ну, мужицкое дело и сполняй… Знай свою соху!.. А он ведь норовит все как-никак к купецкому делу пристать… батя-то!.. Лошади, теперь – барышевать ими вздумал… Страмотьё!
Митрофан сердито замолчал.
– А тоже еще в уху встревать! – вдруг необыкновенно сварливым голосом проговорил все время упорно молчавший Михайло, – кабыть без него не знают, как ее сварить-то… Учитель нашелся! – он с негодованием плюнул и принялся собирать посуду.
Я пошел к дому. До меня все еще доносились возгласы Михайлы: «Старый черт, тоже два стакана водки… Ишь, невидаль, какая!.. Ломoта его одолела… Барин какой выискался…»
При входе моем в комнаты я застал Андрея Захарыча опять за чаем.
– Эка мужичок-то важный-с! – встретил он меня.
– Кто?
– Сигней-то, мужичок-с!.. Почтительный да и доброжелательный-с… А ведь этого у них страсть как мало-с, чтобы почтения-то-с… Наипаче все грубостью промышляют-с…
– Да, почтительный и доброжелательный, – задумчиво произнес я, вспоминая иронический ответ Митрохи – «до-бё-р!»…
У крыльца послышался грузный лошадиный топот и грохот экипажа, а немного погодя в комнату ввалился Семен Андреич Гундриков, управляющий господ Дурманиных, тот самый политикан и гордец, который пользовался особенным нерасположением Андрея Захарыча.
– А я к вам ночевать ведь, – проговорил Гундриков, устремляясь ко мне с объятиями.
– Очень рад, – сказал я, искоса поглядывая на Андрея Захарыча, который, вдруг напустив на себя какую-то величественную важность, с немым достоинством ожидал приветственного обращения от вновь прибывшего гостя.
– А, здравствуйте, господин Чухвостиков! – свысока проронил Семен Андреич.
– Мое почтение-с! – многозначительно отчеканил Андрей Захарыч, неистово вращая глазами, и затем язвительно добавил: – А у вас овцы колеют-с, Семен Андреич!..
– Вот как! – пренебрежительно протянул Гундриков, и, обратившись ко мне, затараторил: – А вы слышали новость? Гамбетта{3}, представьте себе, сделал чрезвычайно обстоятельный запрос в палате депутатов, касательно того, что…
Но здесь мы остановимся, потому что господину Гундрикову я намерен со временем посвятить особый очерк.
Примечания
1
Маленький заливчик. (Прим. автора.)
2
Монастырь в Воронежском уезде. Летом там бывает значительная конская ярмарка, которая, впрочем, год от году теряет значение, подобно и знаменитой ярмарке Лебедянской. (Прим. автора.)
Комментарии
1
Жилейка – русский народный инструмент.
2
Хазина – огромная вещь, верзила, здесь в смысле большого количества земли.
3
Гамбетта Леон Мишель (1793–1882) – французский политический деятель, один из основателей Третьей республики. В его деятельности нашла отчетливое выражение соглашательская политика республиканской партии после Парижской Коммуны.









