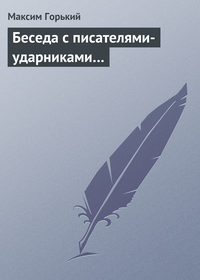полная версия
полная версияЗа работу!

Максим Горький
За работу!
[1]
1 октября 1931 года в Ленинграде состоялось совещание массового сектора ГИХЛ[2] по вопросам о приёмах и формах работы над материалом по «Истории заводов». Прочитанная мною стенограмма совещания воспроизводит несколько очень длинных речей. Речи эти, должно быть, утомили участников собрания, и в конце его один из них, вероятно, шутя сказал: «Горький заварил кашу, а мы расхлёбывай её». Шутка – хорошее дело, но «ничто не возникает без основания, почему оно возникло», и на эту шутку я должен ответить. Извиняюсь, – как говорят вежливые люди, – но «кашу заварил» не я, заварило её стремление рабочего класса к самопознанию, то есть к познанию своего исторического прошлого, что совершенно необходимо для освоения смысла событий, творимых в настоящем, и уяснения прямых путей к целям будущего. Дороги в будущее у нас обильны, проложены довольно широко, прорубаются и мостятся всё шире, это – так! Но для многих молодых людей, которые не прошли суровую школу классовой борьбы и совершенно не знают условий жизни рабочего класса в «доброе старое время», всё ещё не исчезла опасность свернуть, незаметно для себя, в болото мещанского благополучия, – благополучия, основанного на крови их отцов. Болотце это ещё не совсем осушено, и оно имеет своих поклонников, защитников, поэтов. Отцы выгнали из своей страны капиталистов, но врагами рабочего класса были не только фабриканты и помещики. Мелкая буржуазия, городское мещанство заражало его разнообразными ядами своей «психологии» и вовлекало сотни рабочих в тёпленькую тину своего болотца, увеличивая количество паразитов трудового народа. Это надо знать, и это надо крепко помнить. Капиталисты, стремясь выжать из плоти рабочего класса как можно больше жирного, бесполезного золота, которым они как будто скоро уже совсем подавятся, – капиталисты распоряжались – и в Европе ещё распоряжаются – плотью и кровью рабочих так же, как рабочие распоряжаются железной рудой и всяким сырьём, переваривая руду в сталь, сырьё – в бесчисленное количество общественно необходимых вещей. Противопоставление этих двух деятельностей обнажает до костей и до корней идиотизм капиталистического государства. Этот идиотизм, анархизм и бесчеловечный цинизм с предельной ясностью изобличён В. И. Лениным, человеком, чей гениальный разум ещё в 1907 году, когда вожди социал-демократии Европы ходили по земле в приличных одеждах, предвидел, что эти вожди переоденутся в ливреи лакеев капитала и предадут рабочий класс, что они и делают. Делают они это именно потому, что яд психологии мещанства – сильно действующий яд, в классовой борьбе он играет роль отравляющего газа.
Рабочий класс Союза Советов – гигант, обладающий неисчерпаемым количеством трудовой, физической энергии, которую до Октября 1917 года бездарно и бесчеловечно грабили и растрачивали капиталисты России и Европы. Рабочий класс Союза Советов пережил драмы, которых не переживал пролетариат Европы. 9 января 1905 года, истребление рабочих в 1906–08 годах, каторга для тысяч, каторжная работа на Амурской колёсной дороге, массовый расстрел на Ленских приисках – всё это только наиболее крупные эпизоды сплошной, непрерывной трагедии. Возможно, что настанет день, когда пролетариат Европы позавидует, что он не пережил того, что пережито пролетариатом Союза Советов, и что он не знает истории рабочих нашего Союза.
14 лет назад рабочий класс Союза, руководимый партией большевиков, воспитанных Лениным, взял в свои руки политическую власть и начал всевластно хозяйствовать в своей стране, быстро и всё быстрее превращая физическую энергию сотен тысяч своих единиц в коллективную интеллектуальную, творческую энергию. Могучий поток этой энергии, укрепляя диктатуру рабочих, создавая чудеса в области индустриализации страны, с каждым днём всё более и более обогащает её. Самое великое, что сделано коллективным диктатором Союза Советов, – это полное освобождение крестьянства из-под убийственной «власти земли», освобождение десятков миллионов людей от вековых унизительных суеверий и предрассудков, от всей той древней тьмы, которая сделала царскую, дворянскую, купеческую Русь самой тёмной, некультурной, нищей страной.
Как же случилось, что вот эта отсталая страна вдруг стала самой яркой точкой на земле, что на ней сосредоточены внимание, симпатии и надежды пролетариев всех стран? Как случилось, что затравленный, замученный народ вдруг встал на ноги и пошёл – один, первый – к великой цели пролетариата всего мира? Как развилась и выросла эта сказочная энергия? Сколько усилий затрачено рабочим классом старой царской России для того, чтобы создать из плоти и крови своей партию большевиков, аккумулятор его энергии?
Вот это должна знать наша молодёжь, и на эти вопросы обязана ответить ей «История заводов». У нас есть книги по истории партии, но они, рассказывая о политической борьбе труда и капитала, о росте партии, о её битвах с меньшевиками и эсерами – врагами пролетариата, – почти или совсем не изображают бытовых условий, в которых развивалась эта борьба, не говорят о будничной жизни рабочих, о их культурном уровне до Октября, не касаются всей рабочей массы как бесправного орудия капиталистов и в то же время фактического двигателя промышленности, обогатителя огромной страны.
Наша молодёжь, а особенно крестьянская, то есть большинство молодёжи, совершенно не знает прошлого и поэтому недооценивает значения настоящего, неясно видит цели будущего. Это надобно повторять тысячи раз, и с этим нужно бороться до той поры, пока оно не исчезнет. Наша молодёжь не подвергается, как прежде, уродующему давлению чуждого ей класса, он уничтожен вместе с его боевой дружиной, его охраной – церковниками, мещанской прессой и другим мусором, который создали капиталисты и на который опирались они. Мусор выметен, но не весь, и осталось очень много ядовитой пыли. Надо знать прошлое во всём его мрачном бытовом бесчеловечии, с его гнусным цинизмом, с его изумительным лицемерием. Это необходимо для того, чтобы воспитать в себе органическое отвращение к капиталистическому прошлому, чтобы тонко чувствовать раздражающее влияние его пыли, чтобы научиться исторически мыслить, чтобы насытить боевую теорию ленинизма фактами и углубить её, чтобы усвоить дух большевизма, его непримиримость, его гибкий разум, отточенный историей прошлого.
Всё это нужно знать и потому ещё, что хотя капиталистический мир и загнил и разлагается, но в предсмертных судорогах своих он ещё может ударить по Союзу Советов. Мы уже столько сделали нового, что имеем полную возможность сравнить трудовые и бытовые условия прошлого с трудовыми и культурными успехами настоящего, с гигантским размахом нашей индустриальной, культурной, коммунальной стройки, изменяющей лицо земли нашей. Молодёжь должна понять, что она живёт и годы, когда осуществляется, реализуется нечто гораздо более значительное, чем все благожелательные фантазии социалистов-утопистов.
На работе по «Истории заводов» литературная молодёжь получает возможность научиться писать о живом, историческом деле её класса. Учат факты. В Союзе Социалистических Советов создаются почти ежедневно небывалые факты величайшего напряжения энергии, воплощения её в жизнь, в действительность.
На работе по «Истории заводов» должны образоваться кадры людей, которые со временем обязаны будут создать «Институт по изучению роста и развития социалистической промышленности в Союзе Советов».
За работу, товарищи! Поменьше речей, красноречия, побольше дела. За работу по созданию большевистской «Истории заводов»!
О пьесах
[3]
Наиболее трудно и плохо усваиваются простые мысли. Вот, например, за сто лет до наших дней Гёте сказал: «В деянии начало бытия»[4].
Очень ясная и богатая мысль. Как бы самосильно является из неё такой же простой вывод: познание природы, изменение социальных условий возможно только посредством деяния. Исходя отсюда, Карл Маркс сказал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».
Простые мысли плохо усваиваются потому, что человечество века прожило в туманах соблазнительной и лукавой мудрости, совершенно необходимой владыкам жизни для того, чтобы скрыть позор, ужас и непримиримость социально-классовых противоречий, которые в наши дни доразвились до мерзостной очевидности, – прикрыть её уже невозможно никаким суемудрием, никакой хитрой ложью. Но издревле данная привычка мудрствовать лукаво всё ещё действует, и особенно крепко сидит она в мозгах людей, не считающих себя ответственными за мерзость жизни. Разуму этих людей простые истины как бы химически враждебны.
О том, чем занимались и занимаются философы, кратко, но вполне вразумительно рассказал баснописец Иван Хемницер в басне «Метафизик». Суть этой басни такова. Некий молодой человек, гуляя в поле и размышляя «о начале всех начал», свалился в яму, откуда своими силами вылезти не мог. Ему бросили верёвку, но он тотчас же поставил вопрос: «Верёвка – что такое?» Ему сказали, что философствовать о верёвке как «вещи в себе» – не время, – вылезай. Но он спросил: «А время – что?» Тогда его оставили в яме, где он и по сей день рассуждает: необходима ли вселенная, и если необходима, то – зачем?
Метафизики, отрывая мысль от деяния, переносят её в бесплодную область чисто словесных, логических построений, а время постигается только как вместилище движения, то есть – деяния.
Рабочий класс, идущий ныне к власти над миром, является родоначальником нового человечества и совершенно нового отношения к миру, – он наполняет время своей работой и осознаёт весь мир как своё хозяйство.
Художник слова вправе представить себе рабочий класс в образе исторического, всемирного человека, источником самой мощной, всё побеждающей энергии, создателем «второй природы» – материальной и «духовной» культуры.
Работа возбуждает мышление, мышление превращает рабочий опыт в слова, сжимает его в идеи, гипотезы, теории – во временные рабочие истины.
Всякий знает, что превратить слово в дело гораздо труднее, чем дело в слово.
Литератор, работая, одновременно превращает и дело в слово и слово – в дело. Основной материал, с которым работает писатель, – слово.
Народная мудрость очень верно и метко – в форме загадки – определяет значение слова: «Что такое: не мёд, а – ко всему льнёт?»
В мире нашем нет ничего, что не имело бы имени, не было бы заключено в слово. Всё это – примитивно просто, но мне кажется, что значение слова недостаточно освоено молодыми писателями пьес.
Нахожу нужным предупредить, что всё нижеследующее говорится мною не как автором пьесы, а как вообще литератором и театральным зрителем. У нас, к сожалению, вошло в обычай, что молодой человек, написавший одну-две пьесы, воображает себя «сих дел мастером», тотчас же начинает прилаживать к ним газетные статейки или же устные доклады, в коих рассказывает «городу и миру» о методах своего творчества и даже иногда пытается сочинить нечто вроде «теории драмы». В силу соображений, которые в дальнейшем – я надеюсь – будут поняты правильно, я считаю себя вправе последовать дурному примеру. Я написал не две, не пять, а около двадцати плохих пьес и, как старый литератор, обязан поделиться с молодёжью моим опытом.
Пьеса – драма, комедия – самая трудная форма литературы, – трудная потому, что пьеса требует, чтобы каждая действующая в ней единица характеризовалась и словом и делом самосильно, без подсказываний со стороны автора. В романе, в повести люди, изображаемые автором, действуют при его помощи, он всё время с ними, он подсказывает читателю, как нужно их понимать, объясняет ему тайные мысли, скрытые мотивы действий изображаемых фигур, оттеняет их настроения описаниями природы, обстановки и вообще всё время держит их на ниточках своих целей, свободно и часто – незаметно для читателя – очень ловко, но произвольно управляет их действиями, словами, делами, взаимоотношениями, всячески заботясь о том, чтобы сделать фигуры романа наиболее художественно ясными и убедительными.
Пьеса не допускает столь свободного вмешательства автора, в пьесе его подсказывания зрителю исключаются. Действующие лица пьесы создаются исключительно и только их речами, то есть чисто речевым языком, а не описательным. Это очень важно понять, ибо для того, чтобы фигуры пьесы приобрели на сцене, в изображении её артистов, художественную ценность и социальную убедительность, необходимо, чтоб речь каждой фигуры была строго своеобразна, предельно выразительна, – только при этом условии зритель поймёт, что каждая фигура пьесы может говорить и действовать только так, как это утверждается автором и показывается артистами сцены. Возьмём, для примера, героев наших прекрасных комедий: Фамусова, Скалозуба, Молчалина, Репетилова, Хлестакова, городничего, Расплюева[5] и т. д., – каждая из этих фигур создана небольшим количеством слов, и каждая из них даёт совершенно точное представление о своём классе, о своей эпохе. Афоризмы этих характеров вошли в нашу обыденную речь именно потому, что в каждом афоризме с предельной точностью выражено нечто неоспоримое, типическое.
Мне кажется, что отсюда достаточно ясно, какое огромное и даже решающее значение для пьесы имеет речевой язык для создания пьесы и как настоятельно необходимо для молодых авторов обогащать себя изучением речевого языка.
Общим и печальным пороком нашей молодой драматургии является прежде всего бедность языка авторов, его сухость, бескровность, безличность. Все фигуры пьес говорят одним и тем же строем фраз и неприятно удивляют однообразной стёртостью, заношенностью слов, что совершенно не совпадает с нашей бурной действительностью, с тем напряжением творческих сил, в котором живёт страна и которое не может не отражаться и в области словотворчества. Подлое и вредоносное или честное, социально ценное дело превращается на сцене театра в скучный шум бесцветных, небрежно связанных слов.
Мы живём в атмосфере ненависти к нам со стороны дикарей Европы, её капиталистов, нам тоже нужно уметь ненавидеть, – искусство театра должно помочь нам в этом; вокруг и среди нас шипит огорчённое мещанство, – театр, обнажая пред зрителем гнуснейшую сущность мещанина, должен возбуждать презрение и отвращение к нему; нам есть чем гордиться, есть чему радоваться, но всё это не отражается в художественном слове с должной силой. Наша молодая драматургия – ниже героической нашей действительности, а основное назначение искусства – возвыситься над действительностью, взглянуть на дело текущего дня с высоты тех прекрасных целей, которые поставил пред собой рабочий класс, родоначальник нового человечества. Мы заинтересованы в точности изображения того, что есть, лишь настолько, насколько это необходимо нам для более глубокого и ясного понимания всего, что мы обязаны искоренить, и всего, что должно быть создано нами. Героическое дело требует героического слова.
Что искусство никогда не было, не могло быть «самоцелью» для себя – в наши дни это слишком ясно по тому, как трагически обессилело оно вместе с дряхлостью класса, его старого заказчика и потребителя, и как быстро растёт оно вместе с культурно-революционным ростом пролетариата. Так же, как религия, оно в буржуазном обществе служило определённым классовым целям, так же как в области религии, в искусстве были еретики, которые безуспешно пытались вырваться из плена классового насилия и платили за позор слепой веры в «незыблемые истины» мещанства истощающей тревогой неверия в безграничную творческую силу исторического человека, в его неоспоримое право разрушать и создавать.
Лично я причиной неверия считаю отсутствие страсти к познанию и недостаток знаний. Но, разумеется, я не утверждаю, что знание требует веры в него, знание – непрерывный процесс изучения, исследования, и, если оно становится верованием, значит – оно прервалось.
В нашей стране жажда знаний разгорается всё более пламенно; особенно мощно и продуктивно эта жажда заявляет о себе в области науки и техники. Молодые наши учёные и техники изумляют зрелостью своей, пафосом любви к знанию, обилием своих достижений и дерзновением намерений. Молодые литераторы явно недооценивают значение знаний. Они как будто слишком надеются на «вдохновение», но мне кажется, что «вдохновение» ошибочно считают возбудителем работы, вероятно, оно является уже в процессе успешной работы как следствие её, как чувство наслаждения ею. Не совсем уместно и слишком часто молодые литераторы употребляют громкое и тоже не очень определённое церковное словцо – «творчество». Сочинение романов, пьес и т. д. – это очень трудная, кропотливая, мелкая работа, которой предшествуют длительное наблюдение явлений жизни, накопление фактов, изучение языка.
«Творчество» большинства драматургов наших сводится к механическому, часто непродуманному и произвольному сочетанию фактов в рамках «заранее обдуманного намерения», при этом «классовая начинка» фактов взята поверхностно, да так же поверхностно обдумано и «намерение», плохо обдуманное намерение увечит факты, не обнажает их смысла, а к этому добавляется грубая шаблонность характеристик людей по «классовому признаку». Неоспоримо, что «классовый признак» является главным и решающим организатором «психики», что он всегда с различной степенью яркости окрашивает человеческое слово и дело. В каторжных, насильнических условиях государства капиталистов человек обязан быть покорнейшим муравьём своего муравейника, на эту роль его обрекает последовательное давление семьи, школы, церкви и хозяев, чувство самосохранения усиливает его покорность закону и быту; всё это – так. Но конкуренция в недрах муравейника до того сильна, социальный хаос в буржуазном обществе так очевидно растёт, что то же самое чувство самосохранения, которое делает человека покорным слугой капиталиста, вступает в драматический разлад с его «классовым признаком».
В наши дни в среде европейской интеллигенции такие «разлады» становятся обычным явлением, они неизбежно будут количественно возрастать в соответствии с ростом социального хаоса и, естественно, усиливать хаос. Разумеется, далеко не вся масса таких фактов говорит об отмирании или даже ослаблении «классового признака», о наличии глубокого идеологического перерождения, нет, – гораздо чаще дело объясняется просто: старый хозяин одряхлел, разоряется – слуги приближаются к новому хозяину, и вовсе не всегда в намерении работать с ним, а лишь для ознакомления с его качествами. Кроме этого, не следует забывать, что некоторые животные обладают способностью «мимикрии» – способностью подражания окружающей обстановке, слияния с нею в целях самосохранения, самозащиты. Обычно слияние это неглубоко, оно исчезает, как только миновала опасность.
Классическим случаем такой мимикрии является поведение русской «революционной» интеллигенции в 1904–1908 годах. Затем необходимо знать и помнить, что некоторые классово мещанские качества широко распространены, возросли на степень общечеловеческих, что качества эти свойственны даже и пролетариям и что одно дело – взгляды, другое – качества.
Исторический человек, тот, который за 5–6 тысяч лет создал всё то, что мы именуем культурой, в чём воплощено огромнейшее количество его энергии и что является грандиознейшей надстройкой над природой, гораздо более враждебной, чем дружественной ему, – этот человек как художественный образ – превосходнейшее существо! Но современный литератор, драматург имеет дело с бытовым человеком, который веками воспитывался в условиях классовой борьбы, глубоко заражён зоологическим индивидуализмом и вообще является фигурой крайне пёстрой, очень сложной, противоречивой. Поэтому: если мы хотим – а мы хотим – перевоспитать его, нам не следует опрощать сегодняшнего, бытового человека, а мы должны показать его самому себе во всей красоте его внутренней запутанности и раздробленности, со всеми «противоречиями сердца и ума». Нужно в каждой изображаемой единице найти, кроме общеклассового, тот индивидуальный стержень, который наиболее характерен для неё и в конечном счёте определяет её социальное поведение.
«Классовый признак» не следует наклеивать человеку извне, на лицо, как это делается у нас; классовый признак не бородавка, это нечто очень внутреннее, нервно-мозговое, биологическое. Задача серьёзного писателя – построить пьесу на фигурах художественно убедительных, добиться той «правды искусства», которая глубоко волнует и способна перевоспитать зрителя. Вот, например, Уинстон Черчилль, он, конечно, уже не человек, а что-то неизмеримо худшее, он – весьма характерен как существо, у которого классовый признак выражен совершенно идеально в форме его консерватизма и звериной ненависти к трудовому народу Союза Советов. Но если драматург возьмёт его только с этой стороны, – только как существо ненавидящее, – это будет не весь Черчилль и потому – не живой Черчилль. Он, вероятно, обладает ещё какими-нибудь придатками к основному своему уродству, и мне кажется, что, наверное, это придатки убогие, комические. Я совершенно уверен, что у этого лорда есть что-то очень смешное, чего он стыдится, что тайно мучает его и отчего он так злобно пишет свои книги.
Я говорю это, разумеется, предположительно и вовсе не для того, чтоб рассмешить англичан, а чтоб сказать: один только «классовый признак» ещё не даёт живого, цельного человека, художественно оформленный характер.
Мы знаем, что люди – разнообразны: этот – болтлив, тот – лаконичен, этот – назойлив и самовлюблен, тот – застенчив и не уверен в себе; литератор живёт как бы в центре хоровода скупцов, пошляков, энтузиастов, честолюбцев, мечтателей, весельчаков и угрюмых, трудолюбивых и лентяев, добродушных, озлобленных, равнодушных ко всему и т. д. Но и каждое из этих качеств ещё не всегда вполне определяет характер, – весьма часто оно бросается в глаза только потому, что скрыто менее ловко и умело, чем другое, сопутствующее ему, но не совпадающее с ним и поэтому способное слишком явно обнаружить двуличие, «двоедушие» человека.
Драматург имеет право, взяв любое из этих качеств, углубить, расширить его, придать ему остроту и яркость, сделать главным и определяющим характер той или иной фигуры пьесы. Именно к этому сводится работа создания характера, и, разумеется, достигнуть этого можно только силою языка, тщательным отбором наиболее крепких, точных слов, как это делали величайшие драматурги Европы. У нас образцово поучительной пьесой является изумительная по своему совершенству комедия Грибоедова, который крайне экономно, небольшим количеством фраз создал такие фигуры, как Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Репетилов, – фигуры, в которых исторически точно отражена эпоха, в каждой ярко даны её классовые и «профессиональные» признаки и которые вышли далеко за пределы эпохи, дожив до наших дней, то есть являются уже не характерами, а типами, как, например, Фальстаф[6] Шекспира, как Мизантроп и Тартюф Мольера и прочие типы этого ряда. Человека для пьесы надобно делать так, чтобы смысл каждой его фразы, каждого действия был совершенно ясен, чтоб его можно было презирать, ненавидеть и любить, как живого. Чтоб достичь этого умения, нужно учиться читать, изучать, изучать людей так же, как читаются, изучаются книги, и надо понять – изучение людей труднее, чем изучение книг, написанных о людях. Вещь, сделанная из железа, ошибочно кажется гораздо более понятной нам, чем сама железная руда.
Люди очень сложны, и, к сожалению, многие уверены, что это украшает их. Но сложность – это пестрота, конечно, очень удобная в целях приспособления к любой данной обстановке, – в целях «мимикрии».
Сложность – печальный и уродливый результат крайней раздробленности «души» бытовыми условиями мещанского общества, непрерывной, мелочной борьбой за выгодное и спокойное место в жизни. Именно «сложностью» объясняется тот факт, что среди сотен миллионов мы видим так мало людей крупных, характеров резко определённых, людей, одержимых одной страстью, – великих людей. И мы видим, что миллионами трудового народа правят или тупоголовые циники, типа консерваторов Англии или типа бывшего президента САСШ Гувера, которого даже американская пресса, не стесняясь, именовала «неумным человеком», или «нищие духом», как, например, Ганди, бездарные авантюристы – Гитлер и подобные ему мошенники, вроде застрелившегося «короля спичек» Крейгера, а в конце концов за такими «героями» стоит интернациональная взаимно и непримиримо враждебная, количественно ничтожная группа капиталистов, – группа мрачных карикатур на человека.
В мире капиталистов произошло нечто, что должно было произойти: овладевая – посредством энергии чернорабочих культуры – стихийными силами и сокровищами природы, люди становятся всё более бессильными и жалкими рабами социальных условий классового государства, и тяжкий гнёт этого рабства начинают чувствовать даже сами организаторы его – капиталисты. Они уже дошли до того, что хотят возвратиться назад, они испуганы, наёмные выразители их чувства и мыслей орут: довольно науки, нужно остановить рост техники.