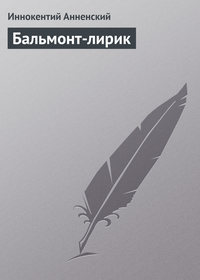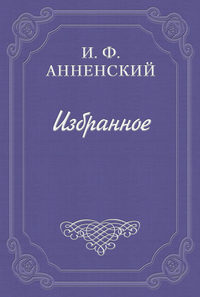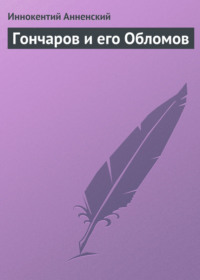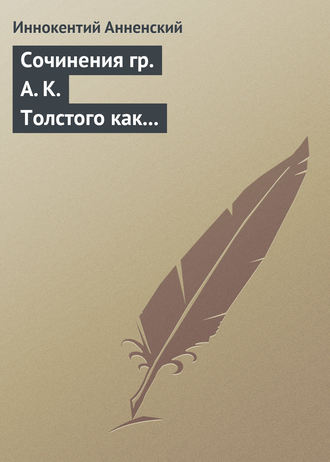 полная версия
полная версияСочинения гр. А. К. Толстого как педагогический материал. Часть вторая. Эпические мотивы
Кончает старик мягким, добрым приветом природе, почтившей его вниманием, и не слыхавшим его людям: он просит у Бога счастья и князю, и его боярам, и народу. Высокая душа сказывается в убогом: душа поэта, чуждая и мелочной зависти, и корысти, душа, полная любви, – она-то и роднит этого нищего с блестящим и гениальным певцом Дамаска. Гений поэта не живет в грязной оболочке.
Жалки кажутся рядом с вдохновенными певцами наемные гусляры в пьесе «Курган»; эти наемники льстиво пророчат своему князю бессмертную жизнь в памяти людей, и их слова умирают, когда родятся; забываются даже раньше, чем слава, которую они воспевают. Мы закончим наш обзор эпических мотивов этой малоколоритной, но, глубокопоучительной балладой. Курган с высокой головой стоит в глубокой степи одиноким, ненужным и загадочным сторожем прошлого.
Несмотря на льстивые пророчества гусляров, имя витязя, погребенного под курганом, даже век, в который он жил, даже народ, которым он правил, – все изгладилось из народной памяти. Но это и естественно, и законно. Что забыто? Забыто ли то, что человек оставил будущему: город, обелиск, портик, храм, закон, песни, открытие? Нет, забыто, что он разрушал,
Чью кровь проливал он рекою,Какие он жег города?Слава по праву достается на долю только создателям – одного, даже недолго жившего Александра Македонского помнят 2000 лет, народные легенды разнесли его имя и подвиги на полмира; а целые народы, со всеми своими радостями, победами, страданиями, с миллионом жизней – все эти гунны, скифы, половцы как в воду канули, будто и не жили никогда; а если теперь их образ и восстановляют, то точно скелет допотопного зверя по скудным материальным остаткам, случайно избежавшим гибели.
Для выяснения истинного понятия о славе, как рисуют ее поэты, полезно вместе с «Курганом» прочитать эпилог к пушкинской «Полтаве»: здесь выясняются самые законы народной памяти о выдающихся людях.