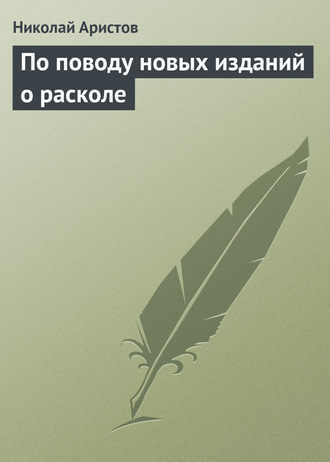 полная версия
полная версияПо поводу новых изданий о расколе
Потребность поэзiи не находила удовлетворенiя въ литературѣ нашей, и потому раскольники такъ пристрастны къ древней русской письменности, въ которой встрѣчается много поэтическихъ картинъ, особенно въ житiяхъ святыхъ и въ апокрифическихъ сочиненiяхъ. Въ жизни религiозной раскольникъ ищетъ удовлетворенiя естественной склонности къ догматизму, порядку и чувству красоты, чего немного было въ церквахъ православныхъ въ старые годы. Въ раскольническихъ молельняхъ и скитахъ простой русскiй человѣкъ находитъ пищу своей набожности, своему стремленiю къ изяществу: тамъ онъ видитъ строгiй порядокъ, ненарушаемый ни разговоромъ, ни смѣхомъ, тамъ все чисто и благообразно, читаютъ нараспѣвъ, поютъ въ духѣ русскаго народа – протяжно, заунывно, все исполняютъ по чину. Въ скитахъ къ простому мужику ласковы, доступны, никто его не толкаетъ, не бранитъ; тамъ напоятъ и накормятъ его, если онъ нуждается, дадутъ совѣтъ самый практическiй, походатайствуютъ за него предъ фабрикантомъ, капиталистомъ или чиновникомъ, въ комъ ему нужда. Во всякомъ случаѣ всегда примутъ участiе, утѣшатъ въ горѣ и разгонятъ лишнее сомнѣнiе. Обыкновенно нападаютъ на поповъ бѣглыхъ и выбранныхъ изъ среды ихъ самихъ; не думаемъ по крайней мѣрѣ, чтобы жизнь ихъ была слишкомъ позорна, потомучто такихъ раскольники скоро выпроваживаютъ отъ себя, а о злоупотребленiяхъ говорить не стоитъ большого труда: сами раскольники бѣжали отъ злоупотребленiй и не мирятся съ ними, ищутъ лучшаго. Все-таки они ввѣряютъ совѣсть свою человѣку сочувствующему имъ свободно, будетъ ли это ихъ братъ крестьянинъ, или бѣглый попъ, поступающiй въ ихъ общину. Самое дробленiе раскола на различныя секты, борьба и вражда между ними доказываетъ ихъ стремленiе къ усовершенствованiю, а не застой жизни. Они съ благоговѣнiемъ вспоминаютъ лица, пострадавшiя за ихъ убѣжденiя или съ успѣхомъ распространявшiя старую вѣру, считаютъ ихъ святыми и имена ихъ красными чернилами вносятъ въ святцы. У нихъ есть священныя мѣста, могилы, ключи и деревья, чтимыя ими по воспоминанiямъ событiй изъ исторiи раскола: къ нимъ ходятъ они на поклоненiе, берутъ песокъ, стружки и воду въ надеждѣ получить исцѣленiе отъ болѣзни.
Въ самыхъ домахъ раскольниковъ господствуетъ порядокъ, чистота и опрятность и доводятъ эти качества даже до крайности; домашняго скота они не держатъ въ избахъ, гдѣ живутъ, а если взойдетъ нечаянно собака, раскольники моютъ и даже скоблятъ мѣсто, гдѣ она пробѣжала, и окуриваютъ избу ладаномъ. Особенно стараются они о благообразiи и чистотѣ божницы, которая часто задергивается пеленой; а въ отдѣльной горницѣ около божницы часто развѣшаны лѣстовки, хранится кадильница, висятъ лампадки, столъ накрытъ скатертью. Одежду раскольникъ любитъ широкую и темнаго цвѣта, въ старомъ вкусѣ; цвѣтныхъ платьевъ и особенно нѣмецкой одежды не тѣрпитъ: онъ говоритъ, что натуральные цвѣты оттого ныньче не имѣютъ соку и жизни прежней, что размножились цвѣты на шаляхъ и ситцахъ; поэтому и пчела стала мереть часто отъ недостатка пищи, и медà теперь невпримѣръ хуже прежнихъ. Одежда и борода для него священны: предки ихъ отстояли эту принадлежность нацiональности своею кровью, выплачивали за нее двойной окладъ и носили особое платье на посмѣшище, по приказанiю Петра. Всѣ мелкiе обычаи у раскольника проникнуты своеобразнымъ, самобытнымъ взглядомъ; по своей степенности и простотѣ жизни, все излишнее, всякую роскошь, которая противорѣчитъ духу народному, онъ считаетъ предосудительною слабостью; презираетъ всякую лесть, всякое униженiе предъ гордыми и сильными земли, гдѣ уничтожается свобода, самостоятельность и человѣческое достоинство, хотябы и мелочныя были ея выраженiя. Въ послѣднее время – говорятъ они – на каждомъ дворѣ будетъ стоять шипящiй змѣй, сирѣчь мѣдный самоваръ; "отъ чая, по ихъ словамъ, не бѣгаетъ только отчаянный", потомучто китяне листья чайной травы окропляютъ идоложертвенною водою и мѣняютъ на товары, чтобы осквернить души христiанскiя; а кто пьетъ кофей, тотъ на Христа строитъ ковъ. Короткое и узкое платье, всѣ женскiя модныя украшенiя, чепцы и шляпы они признаютъ образомъ бѣсовскимъ змѣинымъ. Шейные платки они считаютъ богопротивными: носить ихъ стали по приказу французскаго короля Карлуса, который заставилъ ходить народъ съ петлей на шеѣ въ наказанiе зато, что будтобы удавили его отца. Вотъ что говорится въ раскольнической рукописи, которую удалось намъ читать въ Симбирскѣ; она принадлежала крестьянину деревни Камышенки: "Якоже быша въ дни ноевы… Нынѣ подобнѣ тѣже самые дни прiидоша къ намъ, и надобно бы намъ походить по немало тѣснымъ путямъ, а о многостяжанiи и сладкой пищѣ, а наипаче о женахъ неподобало бы и подумать, но еще ктому, чтò и горѣе всего – не покорятися церкви, не стричь волосы и имѣть подъ ногами скрипъ. Сiе кажетъ насъ, что мы не въ истинной христовой вѣрѣ и не имѣемъ благодати св. Духа, чтобы согрѣлъ сердечную землю нашу, и отъ сего всяко бы были плоды, еже рече апостолъ: плодъ духовный есть любы… Но сего всего не имамы, но равно таже зима и мразове, что и у антихриста скрипитъ подъ ногама." (Изъ посланiя неизвѣстнаго). А касательно униженiя своего человѣческаго достоинства предъ сильными въ наружныхъ знакахъ вотъ какъ говоритъ таже рукопись: "Нынѣ мало видимъ таковыхъ, чтобы стояли предъ божественною иконою со страхомъ и трепетомъ и съ благоговѣнiемъ, якоже надлежитъ; но болѣе и весьма много видимъ предстоящихъ предъ тою иконою, иже имать въ себѣ двѣ власти, духовную и плотскую, и содержитъ въ себѣ гордаго орла и обладаетъ только тѣломъ, а не душею, и ту икону еще гдѣ чуть завидятъ или заслышатъ, то кидаются съ мѣста безъ памяти, готовы хотябы и на ножъ, и станутъ предъ нею со страхомъ и трепетомъ и благоговѣнiемъ многимъ и крайнимъ молчанiемъ, и опрятаютъ всѣ уды тѣла своего, и незнаютъ какъ и еще лучше стать…" Особенно не терпитъ онъ, когда изъ прихоти нарушаютъ посты или оскорбляютъ святыню храма: апостолъ предписалъ, говорятъ они, стоять въ церкви непокровенными главы, а нынѣшнiе никонiане покрываютъ главы париками, и такъ ходятъ въ церковь на молитву. Вообще часто слышатся вопросы: зачѣмъ раскольники обставляютъ такими фантастическими сказками свои мысли? Отчего привязываются къ самымъ безразличнымъ обрядовымъ мелочамъ? Эти вопросы чуть-чуть что не похожи на такого рода тоже вопросъ: зачѣмъ суздальскiя лубочныя картинки не рисуютъ на французскiй манеръ? – Да, для насъ странно это кажется; но если всмотрѣться попристальнѣе въ старую жизнь и въ степень развитiя раскольника, такъ удивляться-то много нечего. Прежде русскiй человѣкъ жилъ такъ-сказать цѣльно, имѣлъ нераздѣльный взглядъ и на вѣру, и на гражданственность, и на науку, въ одномъ созерцанiи онъ видѣлъ движущуюся предъ нимъ жизнь со всѣми ея разнообразными выраженiями, не зналъ нашихъ уродливыхъ схоластическихъ подраздѣленiй и дробленiй, – и для него такъ же была важна сугубая аллилуiя, какъ ношенiе иноземнаго платья, какъ введенiе паспорта и подушнаго оклада; однимъ словомъ – онъ видѣлъ произвольное стремленiе перестроить жизнь народную по сочиненной мѣркѣ, заковать въ заморскiя цѣпи и дорожилъ каждою мелочью, которая пришлась по душѣ предкамъ и завѣщана была ими какъ родное достоянiе и выраженiе жизни духа. На этихъ мелкихъ проявленiяхъ жизни онъ только и могъ объяснить чего онъ хочетъ и чтò ему противно: до отвлеченностей онъ отроду не охотникъ. Съ неразвитымъ разсудкомъ, непонимая связи причинъ и слѣдствiй, онъ поневолѣ долженъ былъ прибѣгать къ фантазiи, облекать готовыми образами и алегорiями свои мысли. И онъ вѣрнѣе и скорѣе достигалъ своей цѣли, чѣмъ всѣ противники раскола, дѣйствовавшiе на него сплеча тяжолыми силогизмами, составленными по всѣмъ правиламъ искуства, при помощи полицейскихъ убѣдительныхъ доказательствъ. Чѣмъ сильнѣе и разительнѣе могъ представить раскольникъ тягости и мученiя народа, какъ не изображенiемъ послѣдняго времени или сравненiемъ себя съ мучениками первенствующей церкви? Этому-то фантастическому воззрѣнiю и обязаны своимъ происхожденiемъ сочиненiя о происхожденiи табака, который представляется выросшимъ изъ тѣла блудницы, зарытой въ могилу вмѣстѣ съ собакой; о происхожденiи картофеля такое же; "сказанiе о хмѣльномъ питiи, отъ чего суть уставися горелое вино душепагубное", которое курить научилъ людей бѣсъ.
Въ такомъ же духѣ и характерѣ недавно издана брошюрка г. Кожанчиковымъ; въ ней заключается "Повѣсть о новгородскомъ бѣломъ клобукѣ", извѣстная изъ актовъ и Памятниковъ словесности, разсылаемыхъ въ видѣ приложенiя къ Русскому Слову", и "Сказанiе о хранительномъ былiи мерзкомъ зелiи, еже есть табацѣ". Здѣсь между прочимъ расказывается, какъ ангелъ явился одному епископу и заповѣдалъ сказать людямъ, чтобъ они отстали отъ богопротивнаго зелья табачной травы: на лицѣ ихъ недостоитъ крестнаго знаменiя воображати, "не повелѣ Господь ниже тѣлесъ ихъ съ вѣрными погребати, ниже близъ святыя церкве, ни молитвы святыя творити надъ ними, ни пѣнiя, ни службы, ни приношенiя за ихъ взимати, яко они Богу врази, а дiаволу тѣ друзи въ животѣхъ своихъ". Потомъ св. Богородица явилась на Красной горѣ недужной дѣвицѣ Ѳеклѣ и между прочимъ сказала: "пiянства оставляли бъ, табакъ отнюдь не пилибъ: проклятъ бо есть отъ Бога и отъ св. отецъ; егда кто его испiетъ, въ то время земля дрогаетъ, Богородица вострепещетъ и небо колыхнется у божiя престола стоя". Въ этихъ сказанiяхъ является творческая народная фантазiя съ своими обычными мотивами: въ древней русской письменности чрезвычайно много подобныхъ расказовъ о явленiяхъ святыхъ людямъ въ случаѣ общественныхъ несчастiй, съ нравоучительными заказами. Нѣтъ ничего легче какъ смѣяться надъ этими повѣстями и сказанiями, какъ и дѣлаютъ многiе; но трудновато понять и объяснить ихъ, почему они въ такой формѣ вылились изъ духа народнаго, какую мысль кроютъ они подъ своимъ фантастическимъ костюмомъ…
И на раскольническiя сочиненiя смотрѣли, да обскуранты и теперь смотрятъ, какъ на складочное мѣсто всякаго рода нелѣпостей, какъ недавно доказалъ блистательно своей громадной книгой Александръ Б. Но оставимъ мертвыхъ погребать мертвецамъ, не будемъ тревожить старый хламъ, не побезпокоимъ господъ, которые придирались въ раскольническихъ сочиненiяхъ къ однимъ несообразностямъ и мелочамъ. Что съ нихъ спрашивать, когда вся ихъ жизнь была ничтожество и мелочь? Перейдемъ лучше къ явленiямъ утѣшительнымъ въ дѣлѣ раскола, на который обратили въ послѣднее время серьозное вниманiе, чего онъ давно стòитъ. Недавно кто-то выразился, что вопросъ о расколѣ сталъ моднымъ. Это неправда: скорѣе нужно видѣть въ немъ одинъ изъ насущныхъ вопросовъ времени, до котораго добрались самымъ послѣдовательнымъ, логическимъ путемъ. Явленiе такой важности и такое запутанное нельзя сразу рѣшить; намъ извѣстно, что нѣкоторые изъ ученыхъ готовятъ статьи по этому предмету; мы съ своей стороны высказали только соображенiя по поводу новыхъ изданiй о расколѣ и станемъ высказывать ихъ при разборѣ самыхъ книгъ. Да не заподозритъ насъ читатель въ излишнемъ пристрастiи къ расколу: мы знаемъ его недостатки и нелѣпости, но ихъ такъ давно и мрачно изображали, что теперь всѣмъ надоѣло повторенiе.
Предъ нами лежитъ небольшая книжка г. Максимова: "Расказы изъ исторiи старообрядства, переданные по раскольничьимъ рукописямъ. Изд. Д. Е. Кожанчикова." Она служитъ отличнымъ руководствомъ, какъ можно изъ раскольническихъ сочиненiй добывать матерьялы для исторiи и для уясненiя взгляда на появленiе и жизнь раскола. Г. Максимовъ смотритъ прямо и безпристрастно на сочиненiя раскольниковъ, касается и недостатковъ ихъ; но при чтенiи его расказовъ вы почувствуете не отвращенiе къ своимъ собратьямъ, но любовь и участiе, и если мелькнетъ улыбка на вашихъ устахъ, то отъ наивности и простоты воззрѣнiя или отъ оригинальныхъ оборотовъ и выраженiй авторовъ раскольническихъ сочиненiй. Очевидно, г. Максимовъ назначалъ свои расказы для всякаго образованнаго читателя, а не для спецiалистовъ, которые давно знакомы съ подлинными сочиненiями. Онъ пополняетъ недостатокъ знанiя внутренней жизни раскола, указывая, гдѣ нужно, на постороннiя свидѣтельства, и имѣетъ глубокiй взглядъ на явленiе раскола въ русской жизни. Онъ говоритъ въ предисловiи къ расказамъ:
"До сихъ поръ мы слышали только однихъ противниковъ раскола, неслыхали его защитниковъ и приверженцевъ; являлись только одни обвинители и судьи, невидно было обвиняемыхъ, неслышно ихъ оправданiй. Оттого-то вообще такая неясность и запутанность понятiй о самой сущности дѣла; оттого-то обнародованiе раскольничьихъ сочиненiй столько же необходимо, сколько и полезно. Они одни въ состоянiи выяснить окончательно этотъ туманный и запутанный вопросъ въ русской жизни, который заурядъ съ московской земщиной, съ народными движенiями на Дону, Волгѣ, Уралѣ и въ Новгородѣ, представляетъ самыя яркiя и законченныя картины въ русской исторiи: это едвали не вся исторiя русскаго народа".
Да, не напрасно же въ расколѣ таится такая несокрушимо живучая и дѣятельная сила, не напрасно тысячи людей погибли, отстаивая его, въ самыхъ варварскихъ истязанiяхъ, а тысячи произвольно отдавались смерти.
Мѣра терпѣнiя народа переполнилась при Алексѣѣ Михайловичѣ; но народъ, считая его благочестивымъ и добрымъ, надѣялся еще, что царь избавитъ его отъ тягостей и поведетъ путемъ, по которому просилась идти его природа. И вотъ цѣлый рядъ челобитныхъ полетѣлъ къ нему со всѣхъ сторонъ – и отъ частныхъ лицъ, и отъ цѣлыхъ общинъ; главное содержанiе этихъ челобитныхъ состояло въ искреннихъ жалобахъ на нововведенiя церковныя и гражданскiя, на тяготы жизни и бѣдствiя народа. Разсылаемыя новоисправленныя Никономъ книги народъ не хотѣлъ принимать, зная Никона за человѣка самовластнаго и гордаго, способнаго къ ненужнымъ и произвольнымъ реформамъ. Когда Алексѣй Михайловичъ повернулся не на путь, указываемый голосомъ народнымъ, отвергъ на соборѣ 1666 года противниковъ реформъ и началъ гнать ихъ, тогда составилось общество хранителей народныхъ началъ, дружно провозгласившее царя и патрiарха антихристами и стало въ опозицiю съ церковью и государствомъ. Явился Стенька Разинъ и народъ сталъ подъ его знамена, пошолъ искать своихъ правъ, своей свободы; по областямъ открылись бунты и во всѣхъ раскольники принимали дѣятельное участiе. Но открытыя возстанiя были подавлены, замолкъ съ ними громкiй голосъ народа, общество было безсильно на борьбу прямую. Послѣ этихъ неудачъ оно прибѣгло, какъ мы видѣли, къ другимъ мѣрамъ… въ тишинѣ дѣлало свое дѣло, отстаивало цѣною жизни свои права, свои начала, и доселѣ твердитъ одно и тоже.
Въ XVI и XVII столѣтiи мало стали довѣрять на Руси и грекамъ. Въ раскольнической литературѣ приписываютъ ихъ хитрое поведенiе перемѣнѣ вѣры подъ влiянiемъ латинянъ и турокъ. Въ соловецкой челобитной прямо сказано: "Нынѣшнiе, государь, греческiе учители прiѣзжаютъ не исправлять, но злата и сребра и вещей собирать, а мiръ истощать. Въ лѣпоту бо имъ самѣмъ прiѣзжать учитися православнѣй христiанской вѣрѣ и благочестiя навыкати." (л. 87) Въ «Повѣсти о бѣломъ клобукѣ» расказывается, что когда турки плѣнили Царьградъ, – отъ безбожныхъ варваровъ нѣкоторые благочестивые хотѣли соблюсти книги греческой вѣры и съ ними отплыли въ Римъ; латиняне заинтересовались, хотѣли изучать, но цари, ради ихъ отступленiя отъ православiя, «улучиша время, принесенныя отъ грекъ книги въ свой римскiй языкъ преложиша, а греческiя книги вси огнемъ сожгоша» (изд. Кожанч., стр. 4). Авраамiй расколоучитель тоже говорилъ Алексѣю Михайловичу: «лучше, государь, старымъ грекамъ вѣрить, а не нынѣшнимъ плутомъ, турскимъ свидѣтелемъ, которые смѣняютъ вѣру и продаютъ на злато, на сребро и на соболи сибирскiя.» Признавая, что и Никонъ заразился этимъ латинскимъ и византiйскимъ прокажоннымъ духомъ, раскольники особенно напали на него, взвалили всѣ господствующiе въ духовенствѣ недостатки на одного патрiарха, приписали ему и грекамъ причину паденiя царя и извращенiя стараго порядка народной жизни. Возмущали раскольниковъ не одинъ Никонъ и царь, но безпорядки господствующей церкви, духовенства, государства и властей. Изъ слѣдующихъ словъ Ѳедора Дьякона ясно видно, что тогдашнее духовенство утратило довѣрiе народа, какъ несоотвѣтствующее своей цѣли:
"Учители настоящаго вѣка – пишетъ онъ – кони сатанины, ихже видѣ святый Iоаннъ Богословъ. И каковы сами преступницы отеческихъ преданiй и законовъ, таковыхъ и въ причтъ поставляютъ неискусныхъ въ писанiи простяковъ, воровъ и пьяницъ, и гнусное житье отъ юности проходящихъ."
Мы могли бы исписать цѣлыя страницы перечисленiемъ тѣхъ недостатковъ, которые господствовали въ духовенствѣ въ это время, некасаясь раскольнической литературы, но это кажется дѣло извѣстное и не требуетъ длинныхъ разсужденiй. О деспотизмѣ Никона любопытствующiе могутъ прочитать въ исторiи Соловьева или въ запискахъ, нетакъ давно изданныхъ русскимъ археологическимъ обществомъ.
Въ "Расказахъ изъ исторiи старообрядства" г. Максимова есть отличное объясненiе, почему масса народа бѣжала отъ своихъ законныхъ поповъ и пошла охотно за простыми мужиками, пономарями и справщиками книгъ, признала ихъ истинными учителями вѣры и нравственности. Г. Максимовъ передаетъ "повѣсть душеполезну о житiи и жизни преподобнаго отца Корнилiя", написанную ученикомъ его Пахомiемъ изъ устъ самого учителя "отъ истины въ пользу слушающимъ и чтущимъ душамъ и въ наслажденiе живота вѣчнаго." Корнилiй принадлежалъ къ числу тѣхъ странниковъ, которые толпами ходили отъ монастыря до монастыря въ то безпечальное время. Онъ жилъ въ комельскомъ монастырѣ двадцать четыре года, былъ въ Москвѣ въ симоновскомъ, сергiевомъ, у Спаса на Новомъ, въ Чудовѣ, въ Новгородѣ у митрополита пекъ хлѣбы, потомъ за искуство въ этомъ дѣлѣ вытребованъ къ патрiарху; онъ не молчалъ предъ Никономъ, который предлагалъ ему мѣсто игумена деревяницкаго монастыря, но онъ отказался; не терпѣлъ Корнилiй нововведенiй, и когда увидѣлъ, что за убѣжденiя жгутъ и головы рубятъ, бѣжалъ на Донъ, чрезъ два года пробрался отсюда въ кириловъ монастырь, потомъ въ Нилову пустынь. Прiѣхали надсмотрщики сюда узнать, по новоисправленнымъ ли книгамъ совершается служба, и когда священникъ отказался править литургiю по новому, взялся служить прiѣхавшiй попъ. Три раза его останавливалъ Корнилiй, когда онъ говорилъ не по старымъ книгамъ и, какъ пономарь, ударилъ его по головѣ "кадиломъ съ разженнымъ углiемъ" и разбилъ голову до крови. Товарищи новоставленнаго попа вбѣжали въ алтарь, схватили Корнилiя за волосы и разбили голову объ полъ до крови. Началась драка. Корнилiй въ суматохѣ бѣжалъ вмѣстѣ съ Пахомiемъ, списателемъ его житiя. Явились они въ олонецкомъ уѣздѣ и здѣсь Корнилiй постоянно странствовалъ и перемѣнялъ мѣста жительства. Его влiянiе на народъ было огромное: онъ, "пьянства и празднословiя гнушашеся отъ дѣтства и до кончины житiя своего весьма сего сохраняяся", велъ жизнь цѣломудренную, сохранялъ строгiй постъ; время проводилъ въ молитвѣ и трудахъ; онъ говорилъ: "проклятъ есть тунеядецъ". Онъ часто бесѣдовалъ съ крестьянами и самъ училъ ихъ грамотѣ. Въ Каргополѣ преслѣдовали Корнилiя враги, но игуменъ спасо-ефимьева монастыря любилъ старину и защищалъ Корнилiя, да и посадскiе всѣ были на его сторонѣ. Этотъ полуграмотный пономарь основалъ выговское общежитiе, изъ котораго выходили учители по всей Россiи. Изъ его учениковъ еще при его жизни нѣкоторые уже были страдальцами за вѣру: такъ въ Каргополѣ на морозѣ стояли Андрей Семиголовъ и другой Андрей съ братомъ и потомъ сожжены, "да и Аѳанасiй кузнецъ съ Озерецъ пострадалъ на Чарынды: въ трехъ застѣнкахъ былъ битъ, потомъ клещами ребра ломали и пупъ тянули, потомъ въ зимнее время въ нестерпимые мразы обнаженъ стояше, и студеную воду съ льдомъ на главу поливаху на многiе часы, донележе отъ брады его до земли соски смерзли, аки поросшiе, послѣди же огнемъ сожженъ бысть; тако скончася. Сiи вси мученицы отъ отца Корнилiя научены быша правовѣрiю", добавляетъ Пахомiй. Извѣстно, что въ это время начались страшныя преслѣдованiя раскольниковъ; "царь государь, по словамъ Шушерина, ревнуя къ церкви, повсюду капитоновъ и раскольниковъ всячески изыскиваше и пустынныя ихъ еретическiя жилища разоряше; самихъ же онѣхъ непокоряющихся смертiю, ранами и заточеньми смиряше."
Въ расказѣ о Никонѣ Андрея Денисова, переданномъ г. Максимовымъ, выразилось все отвращенiе раскольниковъ къ размашистой, шумной жизни патрiарха, къ его крутому деспотическому характеру, къ самоуправству, по которому онъ гнулъ всѣхъ съ нимъ сталкивающихся. Здѣсь передано очень много сказанiй народныхъ, самыхъ фантастическихъ, о жизни Никона; во всѣхъ просвѣчиваетъ одна мысль, что Никонъ – врагъ божiй, антихристъ. Особенно интересно описанiе брани Никона съ восточными патрiархами на соборѣ (стр. 63). Когда Иларiонъ, рязанскiй епископъ, сталъ читать Никону соборный приговоръ отправить его въ ссылку, онъ перебилъ его, бранилъ патрiарховъ, называя ихъ просаками и нищими, а судъ ихъ баснею, правила лживыми, Номоканонъ книгою восточною, законъ царскiй еретическимъ. Иларiонъ обличалъ его жестоко, нарицая убiйцею, блудникомъ, хищникомъ и "иными многими безчестными глаголы." Когда патрiархи приказали снять съ него черный клобукъ и съ шеи панагiю, Никонъ началъ кричать: "вы есте просаки и грабители, а не пастыри, и пришли есте не да пользу кую здѣ сотворите, но лестiю и похлебствомъ жестоконравныхъ человѣкъ сердца похитите и именемъ патрiаршества точiю, а не дѣломъ нраву ихъ разрѣшенiе учините, и тѣмъ несытую вашу, сребролюбную и аду подобную гортань наполните" и пр. Паисiй не утерпѣлъ и сшибъ посохомъ своимъ клобукъ съ никоновой головы. Начались укоры и брань, но "обаче одолѣ греческiй левъ россiйскаго пардоса", говоритъ Андрей Денисовъ. Когда сняли съ Никона клобукъ съ жемчужнымъ крестомъ и панагiю, усыпанную драгоцѣнными камнями, Никонъ сказалъ: "се яко пришлецы и невольницы суще, аще сiя себѣ раздѣлите, – потребу и отраду отъ всѣхъ скорбныхъ, бывающихъ вамъ, на нѣкое время обрящете". Андрей Денисовъ говоритъ, что при Никонѣ "наполнишася абiе узилища узниковъ, огустѣша улицы связанными исповѣдниками, обагришася спекуляторстiи бичи кровiю страдальцевъ, взыграша тѣхъ мечи на исповѣдническихъ выяхъ, покрышася площади казненныхъ мучениковъ тѣлесами. Не толикое убо множество заяцей, увязшихъ въ ловитвенныхъ тенетахъ видяшеся, елико повѣшенныхъ христiанъ за содержанiе благочестiя зрящеся". Между прочимъ онъ упоминаетъ, что при появленiи жестокихъ преслѣдователей многiе сожигали себя или вмѣстѣ въ домахъ, или по одиначкѣ, иные топились или убивали себя какимъ-нибудь острымъ оружiемъ. Да, они разсуждали очень логично, что лучше разомъ покончить всѣ расчеты съ жизнью, чѣмъ лишиться ее послѣ безчеловѣчныхъ истязанiй, а пожалуй, чего добраго, не вынесешь пытокъ, отречешься поневолѣ отъ своихъ убѣжденiй.
Изъ трехъ посланiй Аввакума особенно хорошо послѣднее, предсмертное; оно относится къ 1680 году и проникнуто искренностью, силой, полно алегорическихъ русскихъ прiемовъ и отличается наивнымъ, своеобразнымъ складомъ. "Посланiе это, говоритъ г. Максимовъ, носитъ на себѣ характеръ задушевной, откровенной исповѣди. Самая смѣлость его и наивность изложенiя – одинаково поразительны и знаменательны. Между старообрядцами посланiе это пользуется глубочайшимъ уваженiемъ."
"Много говоритъ это посланiе человѣку понимающему дѣло, и мы не можемъ себѣ отказать въ удовольствiи – подѣлиться съ читателями выдержками изъ этихъ задушевныхъ строкъ Аввакума. Сначала протопопъ обращается къ Алексѣю Михайловичу и проситъ его обратиться въ первое свое благочестiе: "ты наученъ, говоритъ онъ, здравымъ догматомъ единой православной вѣры съ нами же отъ юности. Зачѣмъ ты братiю свою такъ оскорбляешь? – вѣдь всѣ мы имѣемъ одного отца, иже есть на небесѣхъ, по св. христову евангелiю. И не покручинься, царь, что я съ тобой такъ говорю; вѣрь истинѣ… Честь царева судъ любитъ, по словамъ пророка. Чтоже ересь наша? или какой расколъ внесли мы въ церковь, – какъ говорятъ объ насъ никонiане, называя въ лукавомъ и богомерзкомъ жезлѣ раскольниками и еретиками, а въ иныхъ мѣстахъ и предтечами антихриста? Не постави имъ, Господи, грѣхи сего: не вѣдятъ бо бѣднiи чтò творятъ! Ты, самодержецъ, за всѣхъ отвѣчать будешь, ибо ты первый далъ имъ смѣлость нападать на насъ… мы не видимъ за собой и слѣду ересей. Если мы раскольники и еретики, то и всѣ св. отцы наши, и прежнiе благочестивые цари, и св. патрiархи таковые же. О небо и земля! слыши глаголы сiя потопныя и языки велерѣчивыя! За церковь мы страждемъ, умираемъ и проливаемъ свою кровь… Не хвались, палъ ты глубоко, а не возсталъ искривленiемъ, а не исправленiемъ богоотметника и еретика Никона; умеръ душею отъ ученiя его, а не воскресъ. И не прогнѣвайся, что мы называемъ его богоотметникомъ: если правдою спросить насъ – мы скажемъ тебѣ о томъ ясно, изъ устъ въ уста, съ очей на очи. Если же не допустишь ты сдѣлать такимъ образомъ – предадимъ на судъ христовъ. Тамъ и тебѣ будетъ тошно, да нимало уже не пособишь себѣ… А о греческихъ властяхъ и нынѣшней вѣрѣ ихъ самъ ты прежде посылалъ Арсенiя Суханова разузнать у нихъ и знаешь, что у грековъ изсякло благочестiе… (ссылается на повѣсть о бѣломъ клобукѣ). Чѣмъ больше ты насъ оскорбляешь, мучишь и томишь, тѣмъ больше мы тебя любимъ и молимъ Бога о тебѣ до смерти твоей и своей. Спаси, Господи, всѣхъ клянущихъ насъ и обрати ко истинѣ своей! Если не обратитеся, то всѣ погибнете на вѣки, а не временно. Прости, Михайловичъ-свѣтъ! Лучше мнѣ умереть потомъ, но прежде скажу то, что тебѣ знать надо (и никакъ не лгу – ниже притворяясь говорю): мнѣ сидящему въ темницѣ, какъ въ гробу, что надобно? – развѣ смерть одну. Ей тако! – Нѣтъ, видно, государь, надо перестать мнѣ плакать о тебѣ: вижу – не исцѣлить тебя. Ну прости же ради-господа, прощай до тѣхъ поръ, пока не увидимся мы тамъ… Тебѣ, государь, такъ угодно, да и мнѣ такъ любо. Ты царствуй многи лѣта, а я – буду мучиться многи лѣта: и пойдемъ вмѣстѣ въ вѣчныя своя домы, когда угодно то будетъ Богу. Ну, государь, хотя ты меня и собакамъ приказалъ выкинуть, но я еще благословлю тебя послѣднимъ моимъ благословенiемъ, а потомъ прости: ужь только того и жду… Думаю, что скоро будетъ отложенiе тѣлу моему: крѣпко утомилъ ты меня, да ктому и самъ я мало забочусь о здѣшней жизни… Голыя кости мои будутъ растерзаны и влачими по землѣ псами и птицами небесными. (Протопопъ ошибся: его сожгли). Хорошо и такъ: прiятно мнѣ и на землѣ лежать, свѣтомъ одѣянному и небомъ покрытому: и небо мое, и земля моя, и свѣтъ мой и всю тварь Богъ мнѣ далъ… Не хотѣлося бы мнѣ въ тебѣ некрѣпкодушiя: вѣдь то всячески всяко будешь вмѣстѣ не нынѣ; ино тамо увидимся. Аминь".


