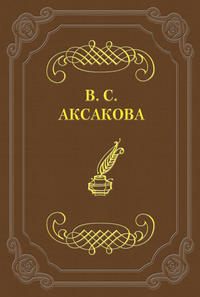полная версия
полная версияДневник. 1855 год
А между тем в народе ходят толки, смущающие всех нас, и в деревнях и в Москве толкуют о том, что царствовать должен Вел. Кн. Константин, а не Александр, потому что Константин родился в царском роде, а Александр в княжеском, и эти слова мы слышали от многих крестьян и женщин даже. Странное заключение, которое впрочем чисто народное, и даже люди ученые говорят, что во времена уделов таковой порядок наследства был в употреблении. Эти понятия случалось всем не раз слышать от простых людей, то же повторяли и об Александре Павловиче, говоря, что должен <царствовать> Михаил Павлович, и так далее, но никогда не могло быть это так важно, как теперь, Вел. Кн. Константин имеет опасную народность, и, сохрани Бог, если новый государь не будет действовать заодно с ними. Теперь же эти слухи так неприятны, даже огорчительны, они могут возбудить недоверие государя к подданным, поставить его во враждебные отношения к народу, к так называемым славянофилам (которых уже теперь считают некоторые виновниками этих толков), всего хуже могут поселить с самого начала неприязнь и недоверие между государем и братом его, что будет пагубно для России во всех отношениях. Между прочим приходил к нам разносчик с мелочью и сказывал, что одни хотят Александра, другие Константина; ему говорят: «Да ведь Александр – старший». – «Да это так, – отвечал он, – но всякий свое говорит, как бы между собой не было разладу». Не дай Бог, это всех страшит. В народе вообще заметно брожение умов; пришло ли время, возбуждено ли было внимание и толки настоящими, трудными обстоятельствами – внезапное, неожиданное такое событие, потрясшее все государство [какая перемена государя на троне!]. А может быть, и какие-нибудь агенты иностранных держав, поляки стараются произвести всякое смущение и движение в народе? – Брат Константин ехал в Москве на извозчике и завел с ним разговор: «Слышал ты, что государь скончался?» – «Да, помер», – отвечал он очень равнодушно. – «Вот теперь новый государь Александр». – «Как Александр? – возразил тот. – Мы слышали, что Константин.» – «Отчего же Константин?» – «Он старше», – отвечал извозчик. Брат Константин стал доказывать ему, что это неправда, но он, видимо, не поверил его словам и только отвечал: «Как вам угодно, вам лучше знать», – что-то в этом роде. В другой раз брат Константин ехал на извозчике к Погодину и спросил извозчика, присягал ли он? «Нет», – сказал тот. «Да ты чей, господский?» – «Господский», – отвечал извозчик. – «Ну так ты присягать не будешь!» – «Как, – возразил извозчик, оборачиваясь к нему лицом, – как же мы не будем, разве мы не христиане? Вы люди большие, мы против вас люди маленькие, но Богу нас один, один государь и законы одни». Брат Константин был поражен речью этого крестьянина и, разумеется, выразил ему полное свое согласие с его мнением. На площади в Кремле, говорят, сказал кто-то громко, что Константину должно присягать, потому что он посты держит. Это, вероятно, раскольник. Раскольники ожесточены до крайности невыносимо притеснительными мерами, которые с ними употребляют, особенно с некоторых пор, именно по требованию министра Бибикова. Говорят, новый государь не любит Бибикова и, вероятно, не будет продолжать мер, им принятых. Дай Бог; этому во всех отношениях можно порадоваться. Такие притеснения до добра не могли бы довести, только усиливали фанатизм. Томашевский рассказывал Константину, что один раскольник, взятый в рекруты, в присутствии бранил самым ожесточенным образом все высшие власти, называл антихристом, и т. д. Ни за что не хотел сбрить бороды, не решался идти в ополчение. Разумеется, его схватили и обрили. Теперь не принимают от раскольников капиталов, так что они не могут записаться в купцы и таким образом поступают в мещанство, которое подчинено рекрутству. Тысячи разных других притеснений раздражают их до крайности; один купец, нам знакомый, велел сказать маменьке (зная, что найдет участие), что им очень плохо, очень тяжело; в другой же раз мы слышали, как один сказал: «Мы подождем еще, да и решимся на что-нибудь!»
Падение колокола в Москве произвело сильное смущение в народе. И в самом деле, каким предзнаменованием должно было показаться это происшествие! В самое время присяги новому государю упал колокол в 2000 пуд. с Ивана Великого, продавил три этажа и остановился на земле. Несколько человек, говорят, убило, иные говорят, что он упал на алтарь и разломал его.
Как должно смутить это известие нового государя и всех в Петербурге! Очень жаль, что первые минуты царствования могут быть смущены такими предзнаменованиями. Но весьма может быть, что это было дело каких-нибудь злонамеренных людей! Право, это кажется вероятнее; иначе это что-то уже слишком эффектно. В Москве стараются придать сколько возможно доброе истолкование этому происшествию. И точно говорят, что этот же самый колокол упал в 1812 году перед изгнанием французов; из этого заключают, что и теперь скоро их прогонят.
Говорят, что с 1812 года этот колокол висел на припаянных углах, которые теперь и отвалились от усердного звона. Константин ходил смотреть в Кремль издали. – Колокола не видать, но видны согнувшиеся балки, на которых он висел.
Иван был во время присяги в Чудове, и когда все вышли оттуда, увидали множество народа на площади, собравшегося около упавшего колокола, тут им сообщили о падении колокола. При присяге были и Ермолов, и Строганов; Ермолов, говорят, грустен и даже плачет. Когда присяга кончилась, все разошлись, только Ермолов и Строганов остались у обедни. Ермолова выбрали еще несколько губерний. Говорят, в Петербурге его выбрали единогласно, только тогда, когда узнали, что государь Николай Павлович отвечал на их запрос, что он будет очень рад, если выберут Ермолова. Неизвестно, знал ли государь Николай Павлович о выборе Ермолова в Москве, потому что еще недавно пришел запрос из Петербурга, кого выбрала Москва. Это значит, что наш губернский предводитель и Закревский еще до сих пор не посылали о том представления. Какие подлые люди! Неужели дворянство не может отделаться от своего предводителя прежде трехлетия, потому только, что оно само его выбрало.
Каково же теперь в такие важные минуты; такой предводитель мешает всем намерениям и движениям московских дворян! Это могут быть очень неприятные следствия, особенно в настоящую минуту. Наши власти останавливают, кажется, как будто нарочно всякие, даже самые добрые и законные движения в дворянстве. Может быть, кто знает, для того, чтоб все достоинство приписать себе лично! Так, например, получая известие о кончине государя и о восшествии нового, дворянство было еще в собрании и хотело тотчас же написать адрес к новому государю в изъявлении сочувствия к его горю и преданности к нему самому… Что же, Чертков и тут воспротивился, сказал, что поздно, и распустил собрание. Это был последний день! – Теперь хотя и пошлется депутация, но адреса не будет, а напишет, что ему вздумается, глупый Чертков или Закревский, все это будет нескоро, неискренне или холодно или подло и Москву обвинят в оппозиции, а Закревский, пожалуй, еще воспользуется этим случаем, чтоб сказать, что только он сдерживает Москву от худших проявлений и т. д. Не досадно ли это? И пойдет опять та же разладица, то же временное недоверие и недоразумение между государем и Москвой и даже вообще всем народом. Тем более что государь Александр Николаевич в рескрипте к Закревскому пишет о Москве, называет ее колыбелью своей; как же не откликнуться на эти слова тотчас же? Всем этого искренно хотелось, а вышло так, что Москву обвинят в холодности. Если б нам сменили этого Закревского!
Самарин видел, как в Чудов монастырь прокладывал чиновник дорогу Закревскому и как потом, когда появился Ермолов, все сами собой раздались и дали ему дорогу.
Говорят, Филарета лицо не выражало никакого ощущения; читал он манифест так тихо, что не только слов, но и голоса его не слыхать почти было, присягу читал громче.
Меншиков сменен; не знаем, радоваться ли или печалиться, – нас скорее смутила его отставка. Он сам просился, по болезни, и в самом деле его прежние раны разболелись.
Много было нападок и обвинений против Меншикова; особенно в Петербурге сильное против него негодование и даже партии. Говорят, ужасный беспорядок в армии особенно насчет больных, провианта; обвиняют его даже в неудаче Инкерманского сражения, зачем он сам не принимал в нем участия! Это приписывают, конечно, не недостатку храбрости, но тому, что этот план сражения был ему прислан из Петербурга, что он был против него, и потому не хотел принять в нем участие. – Не знаю, поскольку все это правда, но все же защита города, по собственному признанию врагов наших, производится с неслыханным успехом; вот уже пять месяцев они там стоят и не только не повредили нашим укреплениям, но с каждым днем, и чуть не с каждым часом, возрастают новые и новые. Что будет далее, Бог знает, может быть, Меншиков мало виноват даже в успехе защиты Севастополя, но все же при нем все идет хорошо, а что-то будет при другом, неизвестно, тем более что главнокомандующим назначен князь Горчаков с оставлением главнокомандующим и при южной армии, где теперь командующим остается Лидере. От Лидерса ожидают все успеха, к тому же он очень расположен к славянам, и его прежний план был идти прямо на Константинополь.
Американцам еще государь Николай Павлович согласился, наконец, дать контрамарки на крейсерство в наших морях. Англичане, верно, не очень будут этому рады.
Константин на возвратном пути встретил турок или скорее курдов пленных. – Лица выразительные чрезвычайно, идут и едут очень весело. Народ везде обходится с ними очень хорошо. На половине дороги Константин нанял крестьянина. Ему попался славный старик, уже лет под 80, которого семья не хотела даже отпускать. Дорогой он разговорился и тоже повторил весточки о Вел. Кн. Константине Николаевиче, что ему надобно царствовать, потому что Александр в княженецком роде, а Константин в царском роде рожден. Толковал об войске, об англичанке, так он называет королеву, вообще об иностранцах, что итальянцы не страшны, но что: «Англичанам Бог всякие премудрости открыл», и прибавил потом: «А наша земля хлебом прославлена». Вообще слова старика выражали благодушие, сочувствие к каждому человеку, столько свойственное русскому. Константин, разумеется, всегда счастлив, когда что-нибудь услышит особенное из уст народа, и на этот раз был очень доволен.
Гриша нам описывал недавно тоже один умилительный случай. В Симбирске один целовальник получил письмо от брата своего из Севастополя; в это время собралось много крестьян и просили его прочесть вслух письмо, целовальник прочел; в нем, кроме обыкновенных приветствий, заключалась просьба писать, а для того, чтоб письмо дошло вернее, просил приложить целковый. Все были тронуты. «Что ему с целковым делать, держи-ка шапку» – сказали крестьяне и набросали тут же 75 целковых.
В четверг, т. е. 24 февраля, обедал у нас Гиляров, приехал более расстроенный и физически и нравственно, нежели когда-нибудь, просил Константина рассказать все подробности, начиная с выборов Ермолова и до последних великих событий. Константин исполнил его просьбу.
Гиляров под конец оживился. Его очень притесняют, сверх обычного гнета духовного управления, и он нам показывал тетрадь с помарками и замечаниями Филарета; всякое живое слово, всякая мысль, сколько-нибудь носящая личный взгляд человека, уже подвергается осуждению и т. д. Филарет – совершенный государь Николай Павлович, та же система, и то же убеждение, и та же сила воли. Человек гениальный, но в каких тесных рамках, что мог бы он сделать, если б не следовал этой системе!
25 <февраля>. В пятницу получила я письмо от Маши Карташевской из Петербурга. Они там так же поражены, как и мы, и огорчены чрезвычайно; между тем, несмотря на горесть общую (пишет Машенька), новый государь возбудил самое благоприятное впечатление и надежды своими словами к разным сословиям, которые принимал.
Сапун-гора, пункт чрезвычайно важный, занята нами, французы сделали на нее нападение, но были отбиты с большим успехом. Зато перед этим наше нападение на Евпаторию было очень неудачно, и мы потеряли из строя 500 человек. Говорят, это известие очень огорчило государя Николая Павловича. Мы дождались, что в Евпатории теперь уже 40 тысяч турок, и дождемся пока там с французами будет 60 тысяч. Мы очень боимся, чтобы враги наши с отчаяния не нанесли нам большого вреда и, пожалуй, чего доброго, не разбили бы нас. Впрочем, Остен-Сакена все очень хвалят, и армии им очень довольны.
В воскресенье ждали Ивана, но он не приехал. В газетах еще ничего особенного. В иностранных известиях напечатана прекрасная статья, в которой изложены последние минуты государя Николая Павловича. Статья составлена прекрасно, со всей простотой, истиной и скромностью, нельзя читать без сердечного умиления и участия. Как хорошо, что обнародовали все эти подробности. Тут является царь и его семья, как простые люди со стороны их человеческих чувств и страданий. Умилительная христианская кончина, какое примирительное и благотворное будет она иметь влияние на всех. Всякий от души помолится за него. Прекрасны и вполне истинны слова, сказанные в конце статьи об Николае Павловиче, что он… И это такая истина, что всякий по совести и с радостью готов ее подтвердить; а что если бы сказали лесть, какое вдруг она бы внушила противоречие и негодование, которое отразилось бы на лице, к которому бы она относилась, и помешала бы отдать ему должную справедливость. Никакими враждебными и насильственными мерами не заставили бы признать достоинства государя Николая Павловича, не возбудили бы такого искреннего сочувствия к нему и молитвами о нем, как теперь этими простыми словами, полными истины и скромности. О, как легко достигается часто путем любви, правды, доверия то, о чем с таким трудом, насильством и враждебной недоверчивостью напрасно хлопочет, Дай Бог, чтоб наш новый государь, начавши так, так и продолжал, тогда ему сами собой не нужны сделаются всякие внешние ограждения, запреты, жандармы и т. д. Дай Бог! По крайней мере, он не раз выражал и прежде свое мнение о необходимости публичности в делах, о необходимости общественного мнения, как единственного контроля и поверки для монархического правления. Говорят, на другой день своего царствования, он, при приеме министров, принял великого князя Константина Николаевича уже как император и сказал ему: «Я должен благодарить вас за вашу неусыпную деятельность в вашей службе и прошу всех министров брать с вас пример и ввести ту же публичность в своих делах». Все это нас радует. Говорят, нельзя узнать в новом императоре прежнего великого князя, держит себя совсем иначе. Конечно, положение так высоко и важно, что немудрено переродиться. Разумеется, замечают теперь всякую безделицу, с кем он как поцеловался, на кого как взглянул и т. д.
28 февраля. Сегодня утром приехал Иван. Особенных важных вестей нет, но мелких много. До сих пор об мыслях нового государя насчет внешней политики никто еще ничего не знает, кроме того, что он сказал дворянам или купцам: «Будьте уверены, что я не выдам честь России» и также отвечал австрийскому послу на его слова, что все, зная его доброту, радуются его восшествию. «Мне очень лестно такое мнение, – отвечал государь, – но это не помешает мне исполнить долг мой в отношении России». Говорят, он не хотел поцеловать Клейнмихеля, но тот сам бросился его обнимать и потом, встретивши его во дворце в коридоре, пустился очень красноречиво и горячо выражать государю свою горесть. Тот сказал: «Для такой тяжелой минуты ваша горесть слишком шумна». Все это очень хорошо и радует. Что Бог даст дальше? Государыня Марья Александровна, говорят, больше молчит и только повторяет: «j'ai peur» [4]. Великость сана, страшная ответственность, которая с ним сопряжена, и трудность исполнения своего долга особенно в настоящую минуту, конечно, не может не страшить умного человека. Говорят, будто начинаются уже интриги при дворе.
Вышли рескрипты – Меншикову очень холодный. Впрочем, новый государь отклоняет от себя его отставку. Два рескрипта – один Ростовцеву, – другой Витовтову при пожаловании табакерки ничего в себе не заключают, но, как замечают, эти первые пожалования нового государя указывают на значение, которое эти люди будут иметь в новом царствовании. Одна бумага неприятно подействовала и огорчила даже многих – это приказ по войскам. Впрочем, новый государь прямо говорит, что государь Николай Павлович завещал передать эти слова от него войскам, в которых он благодарит их за спасение России в 1825 году. Как не вовремя было напоминать в настоящую минуту об этом времени, об этой несчастной эпохе! И какое спасение, и от чего? 14 декабря бунтовала разве Россия? Бунтовали только несколько полков той же самой гвардии. Россия была чужда этой несчастной и, конечно, безрассудной попытке. Но эти слова особенно еще замечательны, потому что бросают свет на самого Николая Павловича, на его понимание этого несчастного происшествия, на то впечатление, которое сохранил он в продолжении всего своего царствования, так что в последние минуты свои он ни с каким другим словом не обратился к своему народу, как только с благодарностью к войску за подведение восстания, которое он, по всему видно, приписывал всему народу. Вероятно, это событие имело пагубное влияние на все его царствование. В «Journal de Francfort» объявлено об известии о кончине русского государя, но еще подробностей впечатления произведенного этой вестью не сообщено. В «Московских ведомостях» есть уже известие, что австрийский император, в воспоминание услуг или благодеяний императора Николая I, оставляет имя его в одном из полков. Траур везде наложен на 4 недели. Как любопытно знать подробно то впечатление, которое произведет манифест нового государя, как они его примут!
6 марта. Нового до сих пор мало, по крайней мере у нас ничего не известно. – 27 февраля был вынос при самой торжественной печальной церемонии, а вчера или сегодня должны быть похороны. Все ожидают, что по отдании последнего долга государю Николаю Павловичу сын его займется деятельно решением великого вопроса. Что-то будет? – Ожидание всех так напряжено. Стараются отгадать заранее и по самым малейшим признакам заключить вперед о будущих действиях. Так, например, пишет А. О. Смирнова к княжне Цицановой, что перед выносом приехал принц австрийский Вильгельм. Государь Александр Николаевич заставил его прождать себя долго в общей приемной зале и потом, проходя мимо его, подал ему только руку, сказав: «Je descends pour accompagner le corps de mon pere» [5]. После этого принц должен был наравне с другими принцами в мундире пройти пешком верст шесть. Английские и французские журналы, говорят, бранят покойного государя. А. О. Смирнова пишет также, что государь Александр Николаевич говорит и действует без отдыха. Много рассказывают про прием министров, но про Нессельроде никто ни слова; не знаю, как это растолковать: может быть, он сказывается больным и не показывается более. Великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич не поспели к выносу, они проскакали Москвой только 28-го числа. Кажется, слава Богу, все толки и смущения первой минуты при восшествии нового государя улеглись. – Из Москвы пишут к Ивану, как слухи, что Ермолов утвержден, что генерал-адъютант, повезший манифест государя Александра Николаевича в Сибирь, везет также и прощение всем сосланным. Адрес калужский первый не послан; предводитель дворянства Унковский написал другой от себя. В «Московских ведомостях» напечатан прекрасный адрес из Грузии по поводу еще манифеста об ополчении. Вот два было случая, по поводу которых отовсюду были поданы голоса, только одна Москва молчит и благодаря ее начальникам не отозвалась даже новому государю на слова, обращенные к ней именно, как к колыбели его… Это несносно. Конечно, дворянство само виновато: если б оно захотело настоятельно, не смел бы противиться губернский предводитель, да и Закревский не имел бы возможности остановить желание дворян выразить свою преданность новому государю.
Право, это так досадно и обидно: Москве зажали рот, да и говорят, вероятно, на нее все, что вздумают.
Не знаю, правда ли, но и прежде Закревский, как мы слышали, доносил, что он только удерживает Москву от всяких смут и т. п. Хорошо, если б нас освободили от него, он такой гнет наложил на все сословия в Москве, что никто не решается даже на то, что было бы позволено. Ермолов продолжает получать избрания из всех губерний. – Что-то будет? Вот вопрос, который беспрестанно вертится в голове. Если новый государь будет заодно действовать с великим князем Константином Николаевичем, можно ожидать много доброго. Мы не перестаем восхищаться распоряжениями последнего. Получили номер 2-й «Морского сборника» и с наслаждением читаем все статьи в нем, даже все хозяйственные распоряжения; во всем слышится правда, свобода мысли, откровенность, полная доверия; дышится отраднее, точно читаешь об чужом государстве; и как такое направление быстро принесло успех, вызвало жизнь, благородное решение на пользу общую, привлекало к деятельности прекрасных честных людей, как благотворно оно воспитывает всех своим влиянием! Слава Богу, это радостное, великое явление. Да поможет Бог всем добрым деятелям на пользу общую! Замечательна статья директора комиссариатского департамента кн. Оболенского (отчет о действиях), статья Шестакова об действиях флота, с начала войны, тут высказаны смело и откровенно все невыгоды угнетательной системы, в применении ее в отношениях начальников морских к их подчиненным, и все значение и польза нравственных причин, двигающих людьми в исполнение их обязанностей и т. д. Словом сказать, если б та же система и с тем же рвением была употреблена по всем министерствам, осталось бы только благодарить Бога. Это такого рода направление, которое есть ключ ко всем прекрасным преобразованиям. Взывается ко всем за советом, выслушивается со вниманием всякое замечание, жалоба, отдается все на общий суд. Тут со временем, конечно, могут сказаться все народные потребности, и дух народный сам собою выскажется и выработает свое.
Маменька с Наденькой поехали к Троице, что-то привезут нам? Должны быть, по крайней мере, «Московские ведомости» и иностранные журналы, которых мы вовсе не получали на последней почте. Боимся, уже не задержаны ли они? В последних газетах из «Одесского вестника» перепечатано несколько слов о наших действиях при осаде Севастополя. По тону уже слышно, что это писано при Остен-Сакене и под его влиянием: «Поблагодаря Бога прежде всего за успехи наших действий…», горячо отдается справедливость необыкновенным заслугам Тотлебена и Мельникова, последний прозван Обер-Крот, потому что уже 3 месяца проводит под землей. Наши работы минеров были очень удачны. Иностранцы пишут, что русским уже нечего производить новые укрепления, что они теперь занимаются только украшением их, и что в самом деле они превосходны. Что-то теперь там делается! Да поможет Бог! Теперь, кроме обычной молитвы за обедней о победе наших войск, еще определено каждый воскресный день служить большой молебен с коленопреклонением о покорности врагов. Не знаем, что делается в Москве, поехал ли Погодин в Петербург, он непременно должен был бы ехать, тем более что кн. Оболенский дал ему знать, что ему хорошо было бы быть там.
Маменька приехала уже поздно, привезла газеты московские, «Journal de Francfort» один номер, да одно «Supplement», видно, номер задержан. Письма получены от Трутовских два. Слава Богу, у них все хорошо, он не выбран в ополчение, его оставили дома, и они теперь спокойны. Все поражены известием о кончине государя. Письмо от Машеньки Карташевской особенных известий в себе не заключает, пишет только, что слова и речи государя Александра Николаевича приводят всех в восхищение. Что во время печальной церемонии выноса народ на улицах, по которым проезжала процессия, бросился на колени, и государь был так тронут, что написал собственноручно рескрипт, в котором благодарит всех жителей за участие в его горе, и т. д. Ермолов утвержден за Москвой, он, говорят, теперь в Петербурге. А Филарет не поехал, все ждал, чтобы его вызвали, а сам не спросил позволения.
Кажется, он бы и без позволения мог съездить поклониться праху своего государя. Но это все формальность, которую Филарет так уважает. Вообще раздумье какое-то убивает всякое живое движение в людях. Получено также письмо от Елены Антоновны; их горесть и соболезнования о покойном государе переходят всякие меры; такого увлечения много в некоторых кружках; они жалеют, что не поднесли ему при жизни названия Мудрого и Правдивого, последнее скорее бы шло к нему. Пишет также, что падение колокола народ толкует и таким образом, что государь Николай Павлович был все время несчастлив, и что теперь с ним вместе рухнулось и его несчастие и т. д. Говорят, во время процессии государь Александр Николаевич шел без шинели, но ученикам всем велел надеть шинель.