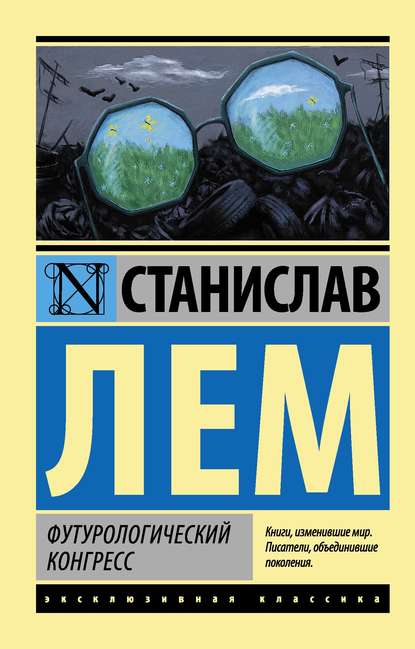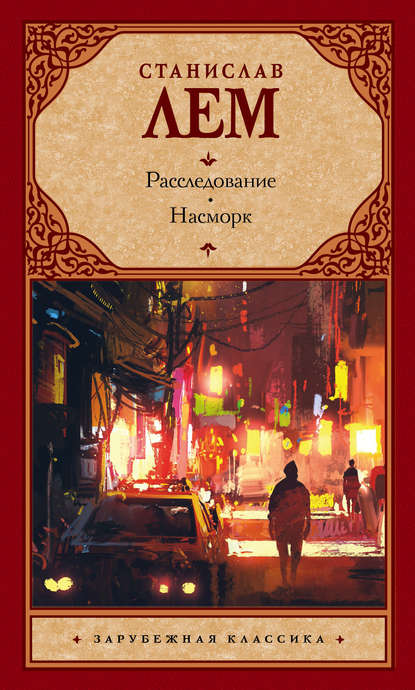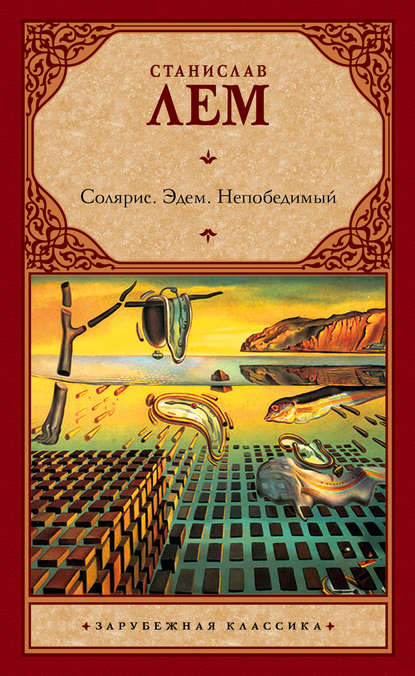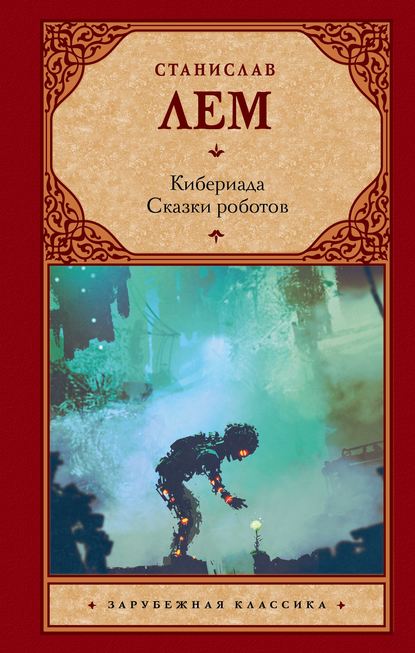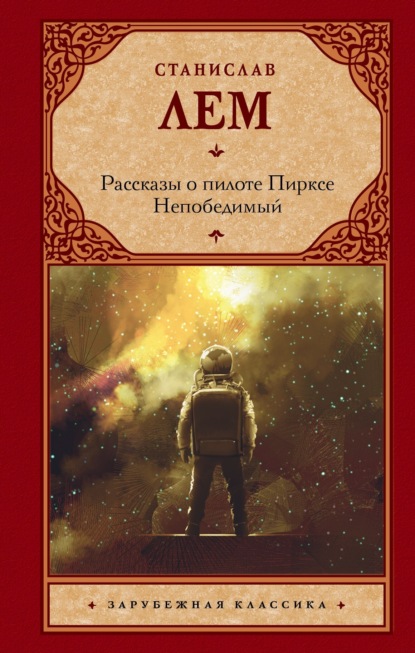Полная версия
Рассказы о пилоте Пирксе (сборник)
Ключ! Ключ от кассеты с рубильником! Он ничком бросился на пол, заглянул под кресло. Там валялась только шпаргалка…
Лампы непрестанно мигали, предохранитель включал и выключал ток. Когда огни гасли, все вокруг становилось белым, как скелет, словно выструганным из костей.
«Конец!» – подумал он. Катапультироваться вместе с банкой? Вместе с креслом, в капсуле? Нельзя, парашют не сработает, на Луне ведь нет атмосферы. «На помощь!!!» – хотелось ему крикнуть, но звать было некого – он был один. Что делать?! Должен же быть какой-нибудь выход!
Он снова рванулся к рукоятке – рука чуть не выскочила из суставов. От отчаяния хотелось заплакать. Так глупо, так глупо… Где ключ? Почему механизм заело? Альтиметр… Он бросил взгляд на табло: девять с половиной тысяч километров. На сверкающем диске ясно виднелись зубчатые края Тимохариса. Ему почудилось, будто он уже видит то место, где врежется в покрытую пемзой скалу. Будет гром, вспышка и…
Вдруг, в секундном проблеске света, его бешено скачущие глаза упали на четверной ряд медных жил. Там отчетливо чернел уголек, соединявший провода, – все, что осталось от мухи. Выставив плечо, он отчаянно, по-вратарски прыгнул вперед, удар был страшный, он чуть не лишился сознания. Стенка не дрогнула. Он вскочил, тяжело дыша, с окровавленным ртом, готовый снова броситься на стеклянную стену.
Посмотрел вниз.
Рукоятка малого пилотажа. Для больших, порядка 10g, но кратковременных ускорений. Действовала она напрямую, через механическое сцепление. И на долю секунды давала аварийную тягу.
Но ею он мог лишь прибавить скорость, то есть – еще быстрее долететь до Диска. А не затормозить. Тяга была слишком кратковременной. А торможение должно быть непрерывным. Значит, малый пилотаж – бесполезен?
Он кинулся к рукоятке, падая, схватил ее, рванул, уже без амортизирующей защиты кресла; ему показалось, что кости у него разлетаются, так его бросило о пол. Он дернул еще раз. Еще один страшный, мгновенный прыжок ракеты! Он ударился головой оземь, если бы не пенопласт – разбился бы вдребезги.
Предохранитель звякнул – и мигание вдруг прекратилось. Кабину залило нормальное, спокойное сияние ламп.
Мгновенные ускорения малого пилотажа двойным ударом выбили трухлявый уголек, застрявший между проводами. Замыкание было устранено. Чувствуя соленый привкус крови во рту, он прыгнул в кресло, словно нырял с трамплина, но промахнулся, пролетел высоко над спинкой, – страшный удар о верх пузыря, лишь отчасти смягченный шлемом.
Как раз тогда, когда он отталкивался для прыжка, заработавший автомат выключил двигатель. Остаточная сила тяжести исчезла. Корабль, теперь уже по инерции, камнем падал прямо на скалистые руины Тимохариса.
Он оттолкнулся от потолка. Кровавая слюна – его собственная – серебристо-красными пузырьками плавала возле него. Отчаянно извиваясь, он вытягивал руки к спинке кресла. Выгреб из карманов все, что там было, и швырнул за спину.
Сила отдачи медленно, мягко подтолкнула его, он опускался все ниже, пальцы, вытянутые так, что лопались сухожилия, царапнули ногтями никелированную трубку и впились в нее. Теперь он уже не отпустил. Головой вниз, как гимнаст, выполняющий стойку на брусьях, подтянулся, поймал ремни, съехал по ним вниз, обернул их вокруг туловища – застежка… застегивать было некогда, он зажал конец ремня зубами – держало. Теперь руки на рукоятки, ноги – в стремянные педали!
Альтиметр: до Диска – тысяча восемьсот километров. Ну что, успеет затормозить? Исключено! 45 километров в секунду! Нужно выполнить разворот, глубокий выход из пике – только так!
Он выключил рулевые дюзы – 2, 3, 4g! Мало! Мало!
Дал полную тягу на разворот. Сверкающий ртутью диск, до сих пор словно бы встроенный в экран, дрогнул и начал все быстрее уплывать вниз. Кресло поскрипывало под растущей тяжестью тела. Корабль описывал дугу над самой поверхностью Луны, дугу огромного радиуса, ведь скорость была громадная. Рукоятка стояла не шелохнувшись, доведенная до упора. Его все глубже вдавливало в губчатое сиденье, дыхание перехватывало – комбинезон не был соединен с кислородным компрессором, он чувствовал, как прогибаются ребра, сероватые пятна замелькали перед глазами. Ежесекундно ожидая потери зрения, он все же не отрывал глаз от рамки радарного альтиметра, перемалывавшего в своих окошечках цифры, один ряд выскакивал за другим: 990—900—840—760 километров…
Он знал, что идет на полной тяге, и все-таки продолжал выжимать рукоятку. Он делал самый крутой поворот, какой только был возможен, и все же продолжал терять высоту – цифры по-прежнему уменьшались, хотя все медленнее и медленнее – он все еще был в нисходящей части огромной дуги. С трудом – глазные яблоки едва поворачивались – он скосился на траектометр.
Экран аппарата, как и обычно при полете в опасной близости от небесных тел, показывал не только траекторию корабля, вместе с ее слабо мерцающим вероятным продолжением, но и профиль участка лунной поверхности, над которым выполнялся маневр.
Обе кривые – полета и лунного профиля – почти сходились. Пересекались они или нет?
Нет. Но его дуга почти касалась поверхности. Было неясно, проскользнет он над Диском – или врежется в грунт. Погрешность составляла семь-восемь километров, и Пиркс не мог знать, где проходит кривая: над скалами или под ними.
В глазах темнело – 5g делали свое. Но сознания он не терял. Лежал, ослепший, стиснув пальцы на рукоятках, чувствуя, как понемногу сдают амортизаторы кресла. В то, что пришел конец, он не верил. Просто не мог поверить. Уже и губы отказывались пошевелиться – и в наступившей для него темноте он медленно считал про себя: двадцать один… двадцать два… двадцать три… двадцать четыре.
При счете «пятьдесят» мелькнула мысль: вот оно, столкновение – если ему вообще суждено случиться. И все-таки он не разжал ладоней. Ему становилось все хуже: удушье, звон в ушах, во рту полно крови, в глазах – кровавая темень…
Пальцы разжались сами – рукоятка медленно сдвинулась, он уже ничего не слышал, ничего не видел. Тьма постепенно серела, дышать становилось легче. Он хотел открыть глаза, – но они оставались все время открытыми и теперь горели огнем: пересохла роговица.
Он сел.
Гравиметр показывал 2g. Передний экран – пуст. Звездное небо. Луны ни следа. Куда девалась Луна?
Она осталась внизу – под ним. Из своего смертельного пике он взмыл ввысь – и теперь удалялся от нее с убывающей скоростью. Как близко он прошел над Луной? Альтиметр, конечно, зарегистрировал, но в эту минуту у него были дела поважнее, чем выпытывать цифровые данные у прибора. Лишь теперь до его сознания дошло, что сигнал тревоги наконец-то замолк. Много пользы от такого сигнала! Уж лучше бы подвесили колокол. Погост – так погост. Что-то тихонько зажужжало – муха! Та, вторая! Жива, проклятая тварь! Она кружила над самой банкой. Во рту у него торчало что-то отвратительное, шершавое, с привкусом полотна – конец предохранительного ремня! Он все еще сжимал его в зубах. И даже не замечал этого.
Он застегнул ремни, положил ладони на рукоятки: теперь надо вывести ракету на заданную орбиту. Обоих ИО, конечно, и след простыл, но он должен дотянуть, куда следует, и доложить о себе Луне Навигационной. А может, Луне Главной, ведь у него авария? Черт их разберет! Или сидеть тихо? Исключено! Когда он вернется, увидят кровь, даже стеклянный верх забрызган красным (теперь он это заметил), впрочем, регистрирующее устройство записало на пленку все, что тут творилось, – и безумства предохранителя, и его борьбу с аварийной рукояткой. Хороши эти АМУ, нечего сказать! А еще лучше те, что подсовывают пилотам такие гробы!
Но пора уже было рапортовать, а он все еще не знал кому; он отпустил плечевой ремень, нагнулся и протянул руку к шпаргалке, валявшейся под креслом. В конце концов, почему бы и не заглянуть в нее? Хоть теперь пригодится.
И тут позади он услышал скрип – точь-в-точь будто отворилась какая-то дверь.
Никакой двери там не было, он знал это точно, а впрочем, привязанный ремнями к креслу, не мог обернуться, – но на экраны упала полоса света, звезды поблекли, и он услышал приглушенный голос Шефа:
– Пилот Пиркс!
Он хотел вскочить, ремни не пустили, он опять упал в кресло – с ощущением, будто сходит с ума. В проходе между стенками кабины и пузыря появился Шеф. Шеф стоял перед ним в своем сером мундире, серыми глазами смотрел на него – и улыбался. Пиркс не понимал, что такое с ним происходит.
Стеклянная оболочка приподнялась – он машинально начал отстегивать ремни, встал, – экраны за спиной Шефа внезапно погасли, словно их ветром задуло.
– Совсем неплохо, пилот Пиркс, – сказал Шеф. – Совсем неплохо.
Пиркс все еще не соображал, что с ним, и, стоя навытяжку перед Шефом, сделал нечто ужасное – повернул голову, насколько позволял надутый ворот.
Весь проход вместе с люком раздался по сторонам – как будто ракета здесь лопнула. В полосе вечернего света виднелся помост ангара, какие-то люди на нем, тросы, решетчатые консоли… Пиркс с полуоткрытым ртом взглянул на Шефа.
– Подойди-ка, дружище, – сказал Шеф и медленно протянул ему руку. Пиркс пожал ее. Шеф усилил пожатие и добавил: – От имени Службы Полетов выражаю тебе признательность, а от своего собственного – прошу извинения. Это… это необходимо. А теперь зайдем-ка ко мне. Ты сможешь умыться.
Он направился к выходу. Пиркс пошел за ним, ступая тяжело и неуклюже. На воздухе было холодно и дул слабый ветерок: он проникал в ангар через раздвинутую часть перекрытия. Обе ракеты стояли на прежних местах – только к их носовым частям тянулись, провисая дугой, длинные, толстые кабели. Раньше этих кабелей не было.
Стоявший на помосте инструктор что-то ему говорил. Через шлем было плохо слышно.
– Что? – машинально переспросил он.
– Воздух! Выпусти воздух из комбинезона!
– А, воздух…
Пиркс повернул вентиль – зашипело. Он стоял на помосте. Двое в белых халатах чего-то ждали перед тросами ограждения. Нос ракеты казался распоротым. Мало-помалу его охватывала какая-то странная слабость… изумление… разочарование… все отчетливее перераставшее в гнев.
Рядом открывали люк второй ракеты. Шеф стоял на помосте, люди в белых халатах что-то объясняли ему. Из люка послышался слабый шорох…
Какой-то коричневый, полосатый, извивающийся клубок выкатился оттуда, смутным пятном мелькала голова без шлема, захлебывалась ревом…
Ноги под ним подогнулись.
Этот человек…
Бёрст врезался в Луну.
Условный рефлекс
Случилось это на четвертом году обучения, как раз перед каникулами.
К тому времени Пиркс отработал все практические занятия, остались позади зачеты на имитаторе, два настоящих полета и «самостоятельное колечко» – полет на Луну с посадкой и обратным рейсом. Он чувствовал себя докой, старым космическим волком, для которого любая планета – дом родной, а поношенный скафандр – излюбленная одежда; который первым замечает в космосе мчащийся навстречу метеоритный рой и с сакраментальным возгласом «Внимание! Рой!» совершает молниеносный маневр, спасая от гибели корабль, себя и своих менее расторопных коллег.
Так, по крайней мере, он себе это представлял, с огорчением отмечая во время бритья, что по его виду никак не скажешь, сколько ему довелось пережить… Даже паскудный случай при посадке в Центральном Заливе, когда прибор Гаррельсбергера взорвался чуть ли не у него в руках, не оставил Пирксу на память ни одного седого волоска! Что говорить – он понимал бесплодность своих мечтаний о седине (а чудесно было бы иметь тронутые инеем виски!), но пускай бы хоть собрались у глаз морщинки, с первого взгляда говорящие, что появились они от напряженного наблюдения за звездами, лежащими по курсу корабля! Пиркс как был толстощек, так и остался. А поэтому он скоблил притупившейся бритвой физиономию, которой втайне стыдился, и придумывал каждый раз все более потрясающие ситуации, из которых в конце концов выходил победителем.
Маттерс, который кое-что знал о его огорчениях, а кое о чем догадывался, посоветовал Пирксу отпустить усы. Трудно сказать, шел ли этот совет от души. Во всяком случае, когда Пиркс однажды утром в уединении приложил обрывок черного шнурка к верхней губе и посмотрелся в зеркало, его затрясло – такой у него был идиотский вид. Он усомнился в Маттерсе, хотя тот, возможно, не желал ему зла; и уж наверняка ни в чем не была виновата хорошенькая сестра Маттерса, которая сказала однажды Пирксу, что он выглядит «ужасно добропорядочно». Ее слова доконали Пиркса. Правда, в ресторане, где они тогда танцевали, не произошло ни одной из тех неприятностей, которых обычно побаивался Пиркс. Он только однажды перепутал танец, а она была настолько деликатна, что промолчала, и Пиркс не скоро заметил, что все остальные танцуют совсем другое. Но потом все пошло как по маслу. Он не наступал ей на ноги, в меру сил старался не хохотать (его хохот заставлял оборачиваться прохожих на улице), а потом проводил ее домой.
От конечной остановки нужно было порядочно пройти пешком, и он всю дорогу прикидывал, как дать ей понять, что он вовсе не «ужасно добропорядочен» – слова эти задели его за живое. Когда они подходили к дому, Пиркс переполошился. Он так ничего и не придумал, а вдобавок из-за усиленных размышлений молчал как рыба; в голове его царила пустота, отличавшаяся от космической лишь тем, что была пронизана отчаянным напряжением. В последнюю минуту метеорами пронеслись две-три идеи: назначить ей новое свидание, поцеловать ее, пожать ей руку (об этом он где-то читал) многозначительно, нежно и в то же время коварно и страстно. Но ничего не получилось. Он ее не поцеловал, не назначил свидания, даже руки не подал… И если б на этом все кончилось! Когда она своим приятным, воркующим голоском произнесла: «Спокойной ночи», повернулась к калитке и взялась за задвижку, в нем проснулся бес. А может, дело в том, что в ее голосе он ощутил иронию, действительную или воображаемую, Бог знает, но совершенно инстинктивно, когда она повернулась спиной, такая самоуверенная, спокойная… это, конечно, из-за красоты, держалась она королевой, красивые девушки всегда так… Ну, короче, он дал ей шлепок по одному месту, и притом довольно сильный. Услышал тихий, сдавленный вскрик. Должно быть, она порядком удивилась! Но Пиркс не стал дожидаться, что будет дальше. Он круто повернулся и убежал, словно боялся, что она погонится за ним… На другой день, завидев Маттерса, он подошел к нему, как к мине с часовым механизмом, но тот ничего не знал о случившемся.
Пиркса все это беспокоило. Ни о чем он тогда не думал (как легко это ему, к сожалению, дается!), а взял да отвесил шлепок. Разве так поступают «ужасно добропорядочные» люди?
Он не был вполне уверен, но опасался, что, пожалуй, так. Во всяком случае, после истории с сестрой Маттерса (с той поры он ее избегал) Пиркс перестал по утрам кривляться перед зеркалом. А ведь одно время он пал так низко, что с помощью второго зеркала пытался найти поворот лица, который хоть частично удовлетворял бы его великие запросы. Разумеется, он не был законченным идиотом и понимал, как смехотворны эти обезьяньи ужимки, но, с другой стороны, искал он не признаки красоты, помилуй Бог, а черты характера! Ведь он читал Конрада и с пылающим лицом мечтал о великом молчании Галактики, о мужественном одиночестве, а разве можно представить себе героя вечной ночи, отшельника, с такой ряшкой? Сомнения не рассеялись, но с кривлянием перед зеркалом он покончил, доказав себе, какая у него твердая, несгибаемая воля.
Волнующие переживания несколько улеглись, когда подошла пора сдавать экзамен профессору Меринусу, которого за глаза называли Мериносом. По правде сказать, Пиркс почти не боялся этого экзамена. Он всего лишь три раза наведывался в Институт навигационной астродезии и астрогнозии, где у дверей аудитории курсанты караулили выходящих от Мериноса товарищей не столько для того, чтобы отпраздновать их успех, сколько чтобы разузнать, какие новые каверзные вопросики придумал Зловещий Баран. Такова была вторая кличка сурового экзаменатора. Этот старик, который в жизни не ступал ногой не то что на Луну, а даже на порог ракеты! – благодаря своей теоретической эрудиции знал каждый камень в любом из кратеров Моря Дождей, скалистые хребты астероидов и самые неприступные районы на спутниках Юпитера; говорили, что ему прекрасно известны метеориты и кометы, которые будут открыты спустя тысячелетие, – он уже сейчас рассчитал их орбиты, предаваясь своему любимому занятию – анализу возмущений небесных тел. Необъятность эрудиции сделала его придирчивым к микроскопическим знаниям курсантов.
Пиркс, однако, не боялся Меринуса, потому что подобрал к нему ключик. Старик пользовался собственной терминологией, которой в специальной литературе никто другой не применял. Пиркс, движимый врожденной сметливостью, заказал в библиотеке все труды Меринуса и – нет, вовсе он их не читал – попросту перелистал и выписал сотни две мериносовских словесных уродцев. Вызубрил их как следует и уверился, что не провалится. Так оно и случилось. Профессор, уловив стиль ответа, встрепенулся, поднял лохматые брови и слушал Пиркса, как соловья. Тучи, обычно не сходившие с его чела, рассеялись. Он словно помолодел – ведь он слушал будто самого себя. А Пиркс, окрыленный переменой в профессоре и собственным нахальством, несся на всех парусах, и, хотя полностью засыпался на последнем вопросе (тут нужно было знать формулы, и вся мериносовская риторика не могла помочь), профессор вывел жирную четверку и выразил сожаление, что не может поставить пять.
Так Пиркс укротил Мериноса. Взял его за рога. Куда больше страха испытывал он перед «сумасшедшей ванной» – последним этапом накануне выпускных экзаменов.
Когда дело доходило до «сумасшедшей ванны», не помогали никакие уловки. Курсанты являлись к Альберту, который числился обычным служителем при кафедре экспериментальной астропсихологии, но фактически был правой рукой доцента – его слово стоило больше, нежели мнение любого ассистента. Он был доверенным лицом еще у профессора Балло, вышедшего год назад на пенсию на радость курсантам и к огорчению служителя (ибо никто так хорошо не понимал его, как отставной профессор). Альберт вел испытуемого в подвал и в тесной комнатке снимал с его лица парафиновый слепок. Полученная маска подвергалась небольшой операции: в носовые отверстия вставлялись две металлические трубки. На этом дело кончалось.
Затем испытуемый отправлялся на второй этаж в «баню». Конечно, это была вовсе не баня, но, как известно, студенты никогда не называют вещи подлинными именами. Это было просторное помещение с бассейном, полным воды. Испытуемый – на студенческом жаргоне «пациент» – раздевался и погружался в воду, которую нагревали, пока он не терял ощущение температуры. Это было индивидуально: для одних вода «переставала существовать» при двадцати девяти градусах, для других – лишь после тридцати двух. Когда юноша, лежавший навзничь в воде, поднимал руку, воду прекращали нагревать, и один из ассистентов накладывал ему на лицо парафиновую маску. Затем в воду добавляли какую-то соль – но не цианистый калий, как всерьез уверяли те, кто уже искупался в «сумасшедшей ванне», – кажется, простую поваренную соль. Ее сыпали, пока «пациент» (он же «утопленник») не всплывал так, что тело его свободно держалось в воде чуть пониже поверхности. Металлические трубки высовывались наружу, и он мог свободно дышать.
Вот, собственно, и все. На языке ученых этот опыт назывался «устранение афферентных импульсов». И в самом деле, лишенный зрения, слуха, обоняния, осязания – присутствие воды скоро становилось неощутимым, – уподобленный египетской мумии, «утопленник», скрестив руки на груди, покоился в состоянии невесомости. Сколько времени? Сколько мог выдержать.
Как будто ничего особенного. Однако с человеком начинало твориться нечто странное. Конечно, о переживаниях «утопленников» можно было почитать в учебниках по экспериментальной психологии. Но в том-то и дело, что переживания эти были сугубо индивидуальны. Около трети испытуемых не выдерживали не то что шести или пяти, а даже и трех часов. Но игра стоила свеч – направление на преддипломную практику зависело от оценки за выносливость: занявший первое место получал первоклассную практику, совсем не похожую на мало интересное, в общем-то даже нудное пребывание на различных околоземных станциях. Невозможно было предсказать, кто из курсантов окажется «железным», а кто сдастся: «ванна» подвергала нешуточному испытанию цельность и твердость характера.
Пиркс начал неплохо, если не считать того, что без всякой нужды втянул голову под воду до того, как ассистент наложил ему маску; при этом он глотнул добрую порцию воды и смог убедиться, что это самая обыкновенная соленая вода.
После того как наложили маску, Пиркс почувствовал легкий шум в ушах. Он находился в абсолютной темноте. Расслабил мускулы, как было предписано, и неподвижно завис в воде. Глаза он не мог открыть, даже если б захотел: мешал парафин, плотно прилегавший к щекам и ко лбу. Сначала зазудело в носу, потом зачесался правый глаз. Сквозь маску, конечно, почесаться было нельзя. В отчетах других «утопленников» о зуде ничего не говорилось; по-видимому, это был его личный вклад в экспериментальную психологию. Совершенно неподвижный, покоился он в воде, которая не согревала и не охлаждала нагое тело. Через несколько минут он вообще перестал ее ощущать.
Разумеется, Пиркс мог пошевелить ногами или хотя бы пальцами и убедиться, что они скользкие и мокрые, но он знал, что с потолка за ним наблюдает глаз регистрирующей камеры; за каждое движение начислялись штрафные очки. Вслушавшись в самого себя, он вскоре начал различать тоны собственного сердца, необычно слабые и будто доносящиеся с огромного расстояния. Чувствовал он себя совсем не плохо. Зуд прекратился. Ничто его не стесняло. Альберт так ловко приладил трубки к маске, что Пиркс забыл о них. Он вообще ничего не ощущал. Но пустота становилась тревожащей. Прежде всего он перестал ощущать положение собственного тела, рук, ног. Он помнил, в какой позе лежит, но именно помнил, а не ощущал. Пиркс прикинул, давно ли он находится под водой, с этим белым парафином на лице. И с удивлением понял, что он, умевший без часов определять время с точностью до одной-двух минут, не имеет ни малейшего представления, сколько минут – или, может, десятков минут? – прошло после погружения в «сумасшедшую ванну».
Пока Пиркс удивлялся этому, он обнаружил, что у него уже нет ни туловища, ни головы – вообще ничего. Совсем так, будто его вообще нет. Такое чувство не назовешь приятным. Оно, скорее, пугало. Пиркс будто растворялся постепенно в воде, которую тоже совершенно перестал ощущать. Вот уже и сердца не слышно. Изо всех сил он напрягал слух – безрезультатно. Зато тишина, наполнявшая его, сменилась глухим гулом, непрерывным белым шумом, таким неприятным, что хотелось заткнуть уши. Мелькнула мысль, что прошло, наверное, немало времени и несколько штрафных очков не испортят общей оценки: ему хотелось шевельнуть рукой.
Нечем было шевельнуть: руки исчезли. Он даже не испугался – скорее, поразился этому. Правда, он читал что-то о «потере ощущения тела», но кто бы подумал, что дело дойдет до такой крайности?
«По-видимому, так и должно быть, – успокаивал он себя. – Главное – не шевелиться; если хочешь занять хорошее место, надо вытерпеть до конца». Эта мысль поддерживала его некоторое время. Сколько? Он не знал.
Потом стало еще хуже.
Темнота, в которой он находился, вернее темнота-он-сам, заполнилась слабо мерцающими кругами, плавающими где-то на границе поля зрения, – круги не светились, только смутно белели. Он повел глазами, почувствовал это движение и обрадовался. Но странно: после нескольких движений и глаза отказались повиноваться…
Но зрительные и слуховые феномены: мерцания, мелькания, шумы и гулы – были безобидным прологом, игрушкой по сравнению с тем, что началось потом.
Он распадался. Даже не его тело – о теле речи не было, – оно не существовало с незапамятных времен, стало давнопрошедшим, утратилось навсегда. А может, его не было никогда?
Случается, придавленная, лишенная притока крови рука отмирает на некоторое время, но к ней можно прикоснуться другой, живой и чувствующей рукой, словно к обрубку дерева. Почти каждому знакомо это странное ощущение, неприятное, но, к счастью, быстро проходящее. Человек при этом остается нормальным, способным ощущать, живым, лишь несколько пальцев или кисть руки мертвеют, становятся будто посторонней вещью, прикрепленной к его телу. А у Пиркса не осталось ничего или, вернее, почти ничего, кроме страха.
Он распадался – не на какие-то там отдельные личности, а именно на страхи. Чего Пиркс боялся? Он понятия не имел. Он не жил ни наяву – какая может быть явь без тела? – ни во сне. Ведь не сон же это: он знал, где находится, что с ним делают. Это было нечто третье. И на опьянение абсолютно не похоже.