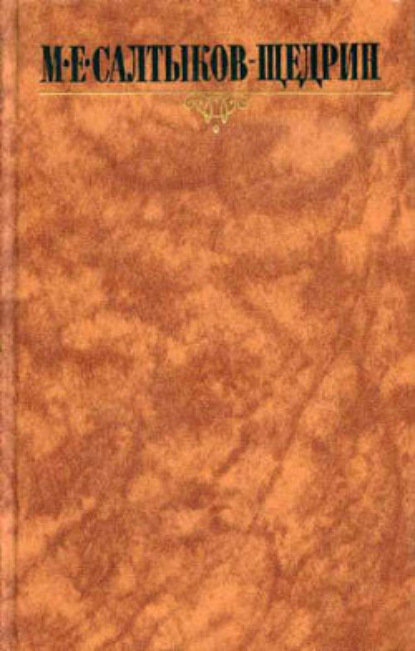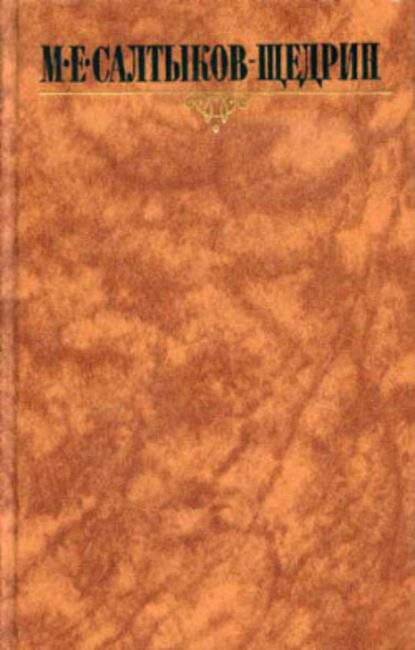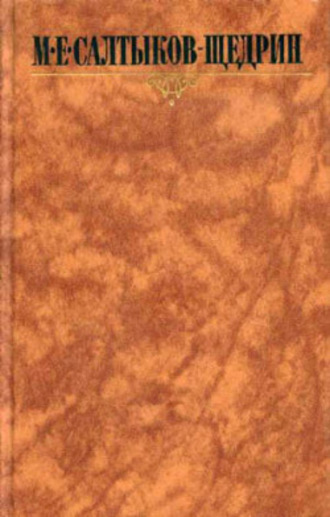 полная версия
полная версияПисьма к тетеньке
Я начал припоминать – и припомнил. Действительно, что-то такое было. Помните, милая тетенька, мы, в конце пятидесятых годов, зазнали в Москве одного начинающего публициста ("другом Грановского" он себя называл) – какая это, казалось, милая, симпатичная личность! И мыслей благородных пропасть, и возвышенных чувств через край, и все это таким приятным слогом выражалось, что мы начитаться не могли. Вот он-то именно и говорил: что мы такое? Мы безвестные величины, которые всего меньше должны думать о себе и всего более об общем благе. И всех призывал к служению. Да! хорошее, доброе было это время!
И что же! не успели мы оглянуться, как он уж окунулся или, виноват – пристроился. Сначала примостился бочком, а потом сел и поехал. А теперь и совсем в разврат впал, так что от прежней елейной симпатичности ничего, кроме греческих спряжений, не осталось. Благородные мысли потускнели, возвышенные чувства потухли, а об общем благе и речи нет. И мыслит, и чувствует, и пишет – точно весь свой век в Охотном ряду патокой с имбирем торговал!
– Ты это об ком вспомнил? – обеспокоился Глумов, проникая в мою мысль.
Я назвал. Разумеется, обиняком.
– Брось! – рассердился он, – ишь ведь… не может забыть!
– Охотно забуду, – возразил я, – но ведь если мы подобные личности в стороне оставим, то вопрос-то, пожалуй, совсем иначе поставить придется. Если речь идет только о практиках убежденных, то они не претендуют ни на подачки в настоящем, ни на чествования в будущем. Они заранее обрекают свои имена на забвение и, считая себя простыми иксами и игреками, освобождают себя от всяких забот относительно "замаранности" или "незамаранности". По-моему, это своего рода самоотвержение.
– А позволь узнать, какое такое общее благо эти иксы и игреки с помощью своего самоотвержения получили?
– Как какое? – вспыхнул я, – а упраздненное крепостное право? а гласный суд?
Глумов окончательно рассердился.
– Ну, давай говорить. Отвечай: был ты в числе сочувствователей и распространителей идеи об упразднении крепостного права?
– Был.
– И тебя не травили за это?
– Травили.
– Сочувствовал ты идее гласного судопроизводства?
– Сочувствовал.
– Травили тебя за это?
– Травили.
– А вот князь Букиазба искони был заведомым крепостником, а его не только не травили, но преблагополучно пристроили к крестьянской реформе. Граф Твэрдоонто был явным ненавистником гласного суда и чуть было этот суд совсем не слопал.
– Что ж из этого! и крестьянская реформа, и гласный суд все-таки остались!
– Это, любезный друг, уж сама жизнь оставила, а практика-то только того добилась, что ненавистников пристроила, а сочувствователей всех поголовно перетравила. Те практиканты, которые на своих плечах эти вопросы вынесли, разве они не разбежались все?
– И все-таки повторяю: не в том важность, кто остался и кто исчез, а в том, что самое дело осталось.
– А ты думаешь, что оно так-таки в целости и осталось? В таком ли виде, например, ты его провидел и ожидал? не потщились ли Букиазба и Твэрдоонто вынуть из него сердцевину или, по крайней мере, настолько ее атрофировать, чтобы им можно было орудовать на всей своей воле? Нет, любезный друг, на практикантов надежда плоха. Родители-то наши полтораста лет сряду только и делали, что узелки на память завязывали. Завязали, ничем не обеспечили, да и бросили: пускай, мол, благодарные потомки как знают, так и развязывают. А мы эти узелки бережем, величие и основу в них видим. И никакие самые ловкие практики не заставят нас сказать им: развязывайте, господа! да поможет вам бог! Шутите, господа! пусть лучше совсем затянется узел, чем каких-то профанов к нему допустить! И если в этом случае ты надеешься на ловкость практиков, то, значит, ты очень наивен – и больше ничего.
– Ни на что я не надеюсь, а знаю только, что так жить, чтобы целая зима показалась яко нощь едина, совсем несвойственно.
– Это я и сам знаю, да как же быть? Вот мужик – тот всегда ровно живет, а мы…
Он не докончил и совершенно неожиданно обратился ко мне с вопросом:
– Ты с теткой-то продолжаешь переписываться?
– Продолжаю.
– А она отвечает тебе когда-нибудь?
– Редко и несложно. "Целую тебя несчетно" – только и всего.
– Ну, так вот что. Напиши ты ей, что очень уж она повадлива стала. Либеральничает, а между тем с Пафнутьевым шепчется. "Помои" почитывает. Может быть, благодаря этой повадливости и развелось у нас такое множество гаду, что шагу ступить нельзя, чтоб он не облепил тебя со всех сторон.
Сказал и ушел.
Замечание Глумова на ваш счет застало меня несколько врасплох.
Неужели, милая тетенька, вы и в самом деле повадливы? Право, до сих пор и в голову мне этот вопрос не приходил.
Повадливость бывает двоякого рода: преднамеренная и легкомысленная. В которой из двух вы оказываетесь повинною?
Преднамеренная повадливость свойственна тем практикантам, которые, как выразился об них Глумов, надеются пролить свою капельку в сосуд преуспеянья. По мнению Глумова, подобная повадливость нередко граничит с вероломством и предательством и почти всегда оканчивается урезками в первоначальных убеждениях и уступкой таких основных пунктов, отсутствие которых самую благонамеренную практику сводит к нулю. Или, говоря другими словами, полного вероломства нет, но полувероломство уж чувствуется.
В повадливости этой категории я, конечно, не решусь вас укорить. Вы – милая: это решено и подписано. Не только о вероломстве, но и о практике вы имеете лишь смутное понятие. Что такое "сосуд преуспеянья"? Зачем он и кому нужен? какие такие бывают вклады, лепты и проч.? Каким путем и что ими достигается? – все эти вопросы дошли до вас в виде отдаленного гула, из третьих-четвертых рук, и притом в самом недостоверном виде. Да и не нужно вам совсем об них знать, потому что вы призваны не для того, чтобы приводить в действие практику, а для того, чтобы служить для нее мишенью. Ради вас поступаются люди убеждениями, ради вас вероломствуют. А вы, голубушка, только вздрагиваете и спрашиваете себя: на чем же, однако, они покончат? К какому придут относительно меня соглашению?
Если б вы даже хотели быть вероломною, то вас не допустят до этого. Право на практику и соединенное с нею вероломство (полное и неполное) есть своего рода привилегия, к обладанию которой допускаются лишь избранники. Ваша же привилегия "совсем другого сорта" и заключается в претерпении. Избранники выполняют свое назначение: устраивают компромиссы, входят в соглашения, заключают союзы, а вы несете на себе последствия этой деятельности и не возражаете. Что подобное положение не может быть названо лестным – с этим я готов согласиться, но чтобы следовало сокрушаться по этому поводу – этого не скажу. Думаю даже, что подвергаться практике все-таки пристойнее, нежели практиковать самому.
Тем не менее подобные сокрушения слышатся нынче довольно часто. Надоело сознавать себя пятым колесом в колеснице. Да, пожалуй, даже не колесом, а вольным шляхом, по которому колесница катается себе да катается взад и вперед. Мало привлекательного в этом сознании! – это так; но все-таки, на случай, если вас чересчур пристигнет чувство обиды, советую вам спросить себя: хотели ли бы вы быть одним из четырех колес этой катающейся колесницы? Уверяю вас, что не успеете вы формулировать ваш вопрос, как всю вашу обиду как рукой снимет.
Роль, на которую мы с вами осуждены, совсем простая. Нам предоставлено жить без забот о себе. Истуканы так живут. Их украшают сусальным золотом, их размалевывают и даже проводят по ним резцом штрихи, с целью сообщить чертам согласное с обстоятельствами выражение, а они молчат да молчат. Бывают между ними такие, которые находят, что все-таки лучше быть истуканом, нежели резцом, но бывают и такие, которые думают: вот когда меня окончательно размалюют – то-то заглядываться на меня станут! Но, по моему мнению, это уж гордость.
Итак, в преднамеренной повадливости я обвинять вас не имею основания. Но существует повадливость легкомысленная, сущность которой заключается не столько в деятельном распутстве, сколько в его укрывательстве и попустительстве. Нет явного сочувствия – скорее я допущу даже стыдливость, – но есть нравственная неустойчивость, которая вносит в отношения к жизненным явлениям элемент дряблости и недомыслия. Вот в этой-то повадливости не повинны ли вы, милая тетенька? Сдается мне, как будто нечто в этом роде сквозит…
Условий, которые благоприятствовали и благоприятствуют развитию в нас легкомысленной повадливости, существует кругом очень достаточно.
Припомню в нескольких чертах наше воспитание. Хотя в смысле буквальной правды и нельзя сказать, что мы с вами получили образование на медные деньги, однако в смысле правды внутренней именно только такое определение и можно назвать выражающим действительную суть дела. Денег на наше образование швырялось с три пропасти, но знаний на эти деньги приобреталось на грош. Люди, которые занимались швырянием денег, не имели понятия ни о том, что такое знание, ни о том, для чего оно нужно. Вся человеческая жизнь приурочивалась к целям, совершенно посторонним знанию, последнее же пристегивалось к ним, как составная часть обязательной привилегии. Конечно, мы уже не застали образовательной обстановки простаковских времен и только по устным рассказам (впрочем, от очевидцев) нам сделались известны такие личности, как г-жа Простакова, Тарас Скотинин и проч., однако ж Митрофанушку и теперь нельзя назвать анахронизмом. Ведь и на него не жалели денег, и у него целых три наставника было, а сверх того, была Еремеевна, на которой лежало общее руководительство. Точно то же повторилось и с нами. Для нас нанимали целую уйму Вральманов, Цыфиркиных, Кутейкиных (конечно, несколько усовершенствованных), а общее руководительство, вместо Еремеевны, возлагали на холопа высшей школы. Вральманы пичкали нас коротенькими знаниями (был один год, например, когда я одновременно обучался одиннадцати «наукам» и в том числе «Пепину свинству», о котором недавно вам писал), а холоп высшей школы внушал, что цель знания есть исполнение начальственных предначертаний.
Сведения доходили до нас коротенькие, бессвязные, почти бессмысленные. Они не анализировались, а механически зазубривались, так что будущая их судьба вполне зависела от богатства или бедности памяти учащегося. Ни о каком фонде, могущем послужить отправным пунктом для будущего, и речи быть не могло. Повторяю: это было не знание, а составная часть привилегии, которая проводила в жизни резкую черту; над чертою значились мы с вами, люди досужие, правящие; под чертою стояло одно только слово: мужик. Вот, чтоб не очутиться на одном уровне с мужиком, и нужно было знать, что Париж стоит на реке Сене и что Калигула однажды велел привести в сенат своего коня.
Мужик! ведь это что-то до того позорное, что достаточно одного сравнения с ним, чтобы заставить правящего младенца сгореть со стыда. Что локти на стол положил – точно мужик! что в носу ковыряешь – точно мужик! смотри, какой кусок в рот запихал – точно мужик! Так и гвоздили со всех сторон. И что всего замечательнее: усерднее всех в этом смысле гвоздила Еремеевна. Ах, эти холопы! на какой бы служебной ступени они ни были поставлены, есть что-то горькое и слепое в их судьбе! Вечно пресмыкаться и вечно же видеть в этом пресмыкании нечто неизбежное, почти заслуженное!
С таким запасом знания школа ежегодно выбрасывала из своих недр тысячи юношей. Снабженные патентами, эти правящие юнцы переходили из малой казны в большую казну. Полученное скудное знание только в редких случаях давало позыв к дальнейшему самообразованию, в громадном же большинстве пробуждало лишь стремление как можно скорее и полнее воспользоваться добытою привилегией. Слава богу, "не мужик" – и будет с нас. Одной этой заслуги было вполне достаточно, чтобы признать человека способным и достойным. Все дороги открывались перед ним, дороги, уснащенные разнообразнейшими видами прав, привилегий, лакомств и наград. Понятно, какое несметное воинство шалопаев должно было оказаться в результате этой изумительной воспитательной муштровки, счастливо сочетавшей невежественность с системой поощрений и премий за оную.
Я не говорю, чтоб эти шалопаи были сплошь злые или порочные люди; я думаю даже, что, при легкомыслии тогдашнего воспитания, самое шалопайство не могло получить вполне злостного характера. И знаю многих, которые, с течением времени, опомнились. Но когда опомнились? – тогда, милая тетенька, когда старые корабли уже были сожжены, когда уйти назад в прошлое было нельзя, а идти вперед значило погрузиться в тот омут, в котором кишат расхитители, клеветники, сыщики и те неслыханные "публицисты", чудовищная помесь Мессалины и Марата, сумевшие соединить в своем ремесле распутство первой и человеконенавистничество последнего. Картина этой бесовской вакханалии до такой степени испугала их, что они оказались более чистоплотными, нежели можно было ожидать.
Но могут ли эти опомнившиеся предпринять какую-нибудь борьбу? да и не только они, но даже и те "лучшие", которые, переступив через школьный порог, сразу признали шалопайство шалопайством? К сожалению, на эти вопросы приходится отвечать отрицательно. И у тех, и у других багаж до того легок, что невольно приходит на мысль, действительный ли это багаж или только примерный, принесенный с целью хоть что-нибудь держать в руках. Вместо знания – сетования на недостаточность их, вместо сил – жалобы на бессилие. Я согласен, что все это очень опрятно, трогательно и даже трагично, но с чем же тут орудовать?
Но этого мало. Я утверждаю, что только действительное знание, действительный труд могут вполне истребить ту вредную закваску легкомыслия, которую привела за собой безазбучно-взлелеянная молодость. Только они могут заставить забыть те омерзительные вкусы, те пошлые привычки, которые накоплены годами привилегированного досужества. При отсутствии труда и знания никакие благородства не устоят, никакие раскаяния не помогут. Чувство самое искреннее не помешает пробуждению повадливости, которая на все намерения и стремления набросит покров неспособности и бессилия.
Недостаток знания восполнялся в нашем воспитании эстетикой, но и эстетика эта была совершенно особенная. Бессодержательная, болтливая, с наклонностью к округлению периодов и далеко не чуждая представления о безделице. В основе лежала ежели не прямо чувственность, то скоропреходящая, мало задерживающая, почти болезненная впечатлительность.
Эта впечатлительность наделала нам пропасть вреда; она бросала нас из стороны в сторону и, по временам, приводила туда, где нам совсем не следовало быть. Вспомните наши старые "связи" – какой разнообразнейший калейдоскоп они представляли! Это была какая-то неслыханная окрошка, в которую входили обрывки и отброски всевозможных миросозерцаний. И мы не только не формализировались уродливостью сочетаний, но были совершенно серьезно убеждены, что иначе и прожить нельзя. Была целая самостоятельная наука "о поддерживании связей", наука, прямо вытекавшая из общего поветрия повадливости, которое мешало нам обособиться и сосредоточиться в самих себе. Эта наука была в свое время настолько же обязательна, как и та, которая учила, что высший признак благовоспитанности заключается в устранении всякого повода для сравнения с "мужиком".
"Надо поддерживать связи!" – восклицали мы вместе с Грызуновым, а Грызунов и теперь – стоит только в окно посмотреть – мечется, как угорелый, из дома в дом и одну только мысль в голове держит: надо поддерживать связи! надо!
И когда рассудок вступил наконец в свои права, когда он, с помощью целого ряда горьких искусов, доказал, что дружить направо и налево нельзя, а в особенности, когда сделалось вполне ясным, что торжествующая действительность окончательно опаскудилась, – тогда мы застыдились и предпочли остаться в рядах действительности неторжествующей. Но много ли можно насчитать таких, которые при этом воистину свергли с себя ветхого человека? много ли таких, в которых воспоминания о "связях" прошлого не пробуждают подавленного вздоха? Говоря по совести, подобные субъекты составляют редкое, почти незаметное исключение, и я боюсь, милая тетенька, что и ваша жизнь, наравне с жизнью опомнившегося большинства, распалась на две половины, из которых в одной предъявляют свои права справедливость и стыд, а в другой все еще чувствуется позыв к шалостям (не решаюсь употребить более резкое выражение) прошлого.
Да, этот внутренний разлад несомненно существует. Шалости прошлого въедчивы; однажды войдя в плоть и кровь человека, они извлекаются оттуда тем с большим трудом, что в общепринятой номенклатуре носят наименование шалостей, а не преступлений. Когда перед глазами совершается грандиозное хищничество, предательство или вероломство, то весьма естественно, что такого рода картина возбуждает в нас негодование; но когда перед нами происходит простая "шалость" – помилуйте, стоит ли из-за пустяков бурю в стакане воды поднимать! Шалость, в понятиях большинства, есть нечто грациозное, симпатичное; шалость! – да ведь это почти терпимость! Вот угрюмость, несообщительность, изолированность – это другое дело. Это качества, которые, по общепризнанному шаблону, предполагают беспощадный фанатизм, говорят воображению о гонениях, пытках, кострах. Угрюмый человек – это бич, от которого нечего ждать, кроме ран и скорпионов, это язва, от которой следует бежать. Не нужно поедательства, но не нужно и угрюмости. Шаловливый человек – вот истинный "средний человек", с которым в одну минуту насчет чего угодно сговориться можно!
Все истинно-государственные люди были слегка шалунами. Гамбетта – шалун, Бисмарк – шалун. Все рейхс и ландстаги, все парламенты наполнены людьми, которые спят и видят, как бы пошалить. Отчего же не пошалить и нам с вами?
Что вы охотно шалите, голубушка, – это ни для кого не тайна, хотя вы скрываете ваши шалости и упорно не сознаетесь в них. Однако ж обличить вас положительно не трудно.
Пишете вы, например, мне, что совсем порвали связь с Пафнутьевым, а об Мартыне Задеке будто бы и не слыхивали, а между тем мне достоверно известно, что потихоньку вы им обоим назначаете тайные свидания в рощице и что при этом нередко присутствует и Иван Непомнящий. С вашей стороны это, конечно, только шалость, а Пафнутьев пользуется этим и распускает слухи, что, в сущности, тетенька симпатизирует ему и только потому облекает свои симпатии тайною, что боится, чтоб не пронюхали о ваших свиданиях потрясатели основ и подрыватели авторитетов.
Или еще. Вы пишете: за кого ты меня принимаешь, чтоб я стала "Помои" читать! – а между тем мне достоверно известно, что хоть одним глазком, а все-таки вы посматриваете в них. Ах, милая! видно, паскудство еще долго не перестанет быть соблазнительным! Все думается: вот сейчас сядет Ноздрев на пол и начнет проходящих женщин за подолы ловить! или: выйдет вперед Расплюев, с распухлой и распутной физиономией, и начнет рассказывать, какая вчера "игра была". Ну, не умора ли! и как хоть глазком на эту умору не посмотреть? А Ноздрев с Расплюевым пользуются этим и говорят: тетенька-то хоть и отрекается от нас, а все-таки свои пятаки нам отдает!
Вот, милая, какие последствия имеет шаловливость. Я только два примера привел, а если захотеть, какое множество других, еще более ярких, можно подыскать!
Хвалить вас за эту повадливость, конечно, нельзя, но следует ли считать уменьшающим вину обстоятельством ту тайну, в которую вы облекаете ваши шалости?
Я полагаю, что следует. Стыдливость, хоть и колеблющаяся, все-таки представляет послугу, которую, по всей справедливости, необходимо зачесть. Она подает надежду, что еще один шаг в этом направлении, еще одно усилие и…
Сделайте, милая тетенька, это усилие! Не ходите в рощу на свидание с Пафнутьевым, не перешептывайтесь с Мартыном Задекою и не заглядывайтесь на публицистов, которые, только по упущению, отвлеклись от прямого своего назначения: выкрикивать в Охотном ряду патоку с имбирем!
* * *Это мой последний совет вам.
И сам я до смерти устал, да и вам бесконечно надоел. И "повторениями", и "блудливым заигрыванием", и "отрицанием принципа нравственности".
Всеми этими замечаниями почтила меня "критика".
А мы-то думали, что "критика" у нас пропала, а осталось только шалопайское подлавливанье словечек и фраз, с уснащением восклицательными и вопросительными знаками.
Что ж! эти приговоры нимало не удивляют меня. Тем, которые позабыли о существовании благородных мыслей, кажется диковинным и дерзким напоминанием об них. Слышите! о благородных мыслях печалиться! Слышите! говорят, что жизнь тяжела! восклицают певцы патоки с имбирем, и так как у них нет в запасе ни доказательств, ни опровержений, то естественно, что критика их завершается восклицанием: можно ли идти дальше этих геркулесовых столпов кощунства и дерзости!
Само собой разумеется, что это совсем особого рода "критики", которые не могут заставить ни остановиться, ни отступить. По-прежнему, покуда хватит сил, я буду повторять и напоминать; по-прежнему буду считать это делом совести и нравственным обязательством. Но не могу скрыть от вас, что служба эта очень тяжелая.
Всего тяжелее действует в этом случае ваша повадливость. Тянет вас, голубушка, и к клевете, и к скандалу, и к этим пахучим издевкам, которые у нас носят название "критики" и "полемики". И хоть я убежден вполне, что вы отлично сознаете, что тут, кроме гноя, ничего нет, но, к сожалению, существует какой-то гвоздь, который мешает вам преодолеть вашу исконную шаловливость. А апологисты охотнорядских Маратов, благодаря вашей неосмотрительности, процветают себе да процветают под флагом благонамеренности.
Подумайте об этом, благо на дворе лето, а вместе с тем наступает и пора отдохновения (для других лето – синоним страды, а для нас с вами – отдыха). Углубитесь в себя, сверитесь с мыслями, да и порешите раз навсегда с вопросом о шалостях.
Скажите себе: попробую-ка я хоть на время позабыть о пропаганде сыска, клеветы и человеконенавистничества… Да, не откладывая дела в долгий ящик, и позабудьте. Увидите, что польза будет несомненная, да и сами вы почувствуете себя лучше, спокойнее духом, здоровее.
Сперва вы забудете на время, а потом, помаленьку да полегоньку, и совсем потеряете вкус к паскудству.
Я твердо убежден, что в делах современности от вас зависит многое, почти все. И даже не от деятельного участия вашего в жизненном круговороте, а просто от характера ваших отношений к жизненным явлениям. По-видимому, вы даже не подозреваете, что вы – сила, а между тем нет истины бесспорнее этой. Сознайте же свою силу, но не для того, чтоб безразлично посылать поцелуи правде и неправде, а для того, чтоб дать нравственную поддержку добросовестному и честному убеждению. Право, без этой поддержки невозможно сделать что-нибудь прочное.
Быть может, тон настоящего, последнего моего к вам письма, до известной степени, изумит вас. Сравнивая его с первым, написанным почти год тому назад, вы не без основания найдете, что тетенькино обличье, с течением времени, несколько видоизменилось. Начал я с безусловных любезностей, а кончил чуть не нравоучением…
Да, это так: не могу я похвалиться выдержкою. По мере того, как намеченная задача развивается передо мной, она настолько проникает меня, что требования мои к ней постепенно растут и растут. Но так как одновременно с этим растет и самая задача, то я полагаю, что худого в этом нет. Именно это самое случилось и по вашему поводу. В течение года, в моем мнении вы настолько выросли, что первоначальные приемы родственной любезности представляются мне уже недостаточными. Нужно ли прибавлять, что от этого вы не только не подурнели на мой взгляд, но даже похорошели.
Затем передайте мой сердечный привет вашим домочадцам и прощайте. Sapienti sat [58].
Но знаете ли вы, милая тетенька, что означает "sapienti sat"?
Май 1882 г.
ПРИМЕЧАНИЯ I
ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕЗамысел «ряда писем, касающихся исключительно современности», возник у Салтыкова сразу же после того, как он окончил, во второй половине июня 1881 г., печатание в «Отечественных записках» «За рубежом». В двух последних главах этого произведения он уже начал разрабатывать те вопросы, которые ставила перед русским обществом политическая действительность периода начавшегося вхождения страны в новую полосу реакции.
1 марта 1881 года героическая "Народная воля" достигла, наконец, той ближайшей цели, к которой так настойчиво стремилась. Брошенной И. И. Гриневицким бомбой был смертельно ранен Александр II. Террористический удар, нанесенный революционерами, вызвал величайшую панику и растерянность в правящих кругах. Но "основ" самодержавия он не только не сокрушил, но и не поколебал и скорее оказался вредным для дела революции, для общественной жизни страны в целом. Как и предсказывал Г. В. Плеханов, на воронежском съезде "Земли и воли", вместо конституции и народовластия, о чем мечтали народовольцы, к императорскому инициалу "А" прибавилась еще одна "палочка". На престол взошел сын убитого царя, ставший Александром III. Чувства смятения, страха, неуверенности в царской семье и в правительственных сферах прошли не сразу. Колебания в выборе политики продолжались и после того, как новый император решился казнить первомартовцев и выступил с манифестом о незыблемости самодержавия (29 апреля). Провозглашенный манифестом (инициатором его и автором текста был К. П. Победоносцев) реакционный курс, отказ царизма от каких-либо уступок конституционного характера, не был реализован сразу и сочетался в первое время с тактикой выжидания и "либеральных" заигрываний с "обществом". Лишь убедившись в том, что убийство Александра II не вызвало ни последующих террористических актов, ни массовых выступлений крестьянства (несмотря на экономические трудности и социально-напряженное положение в деревне), ни подъема оппозиционной активности в среде либеральной интеллигенции, правительство приступило к последовательному осуществлению объявленной политики.