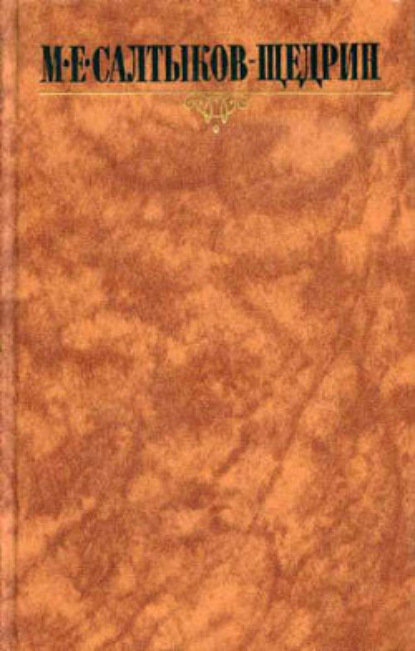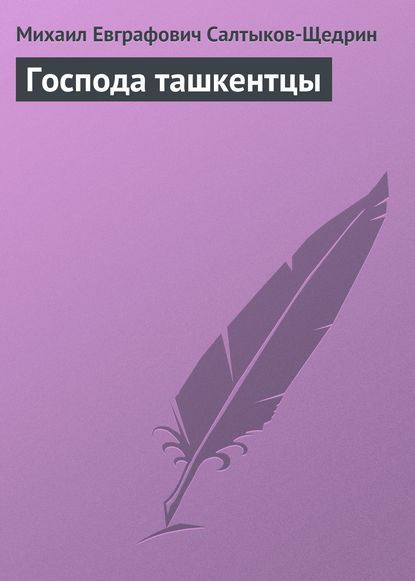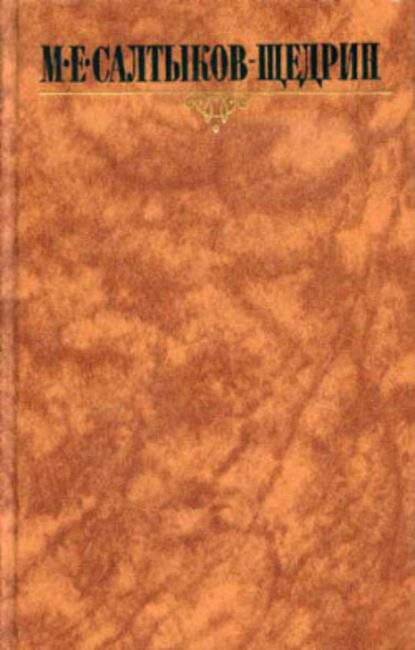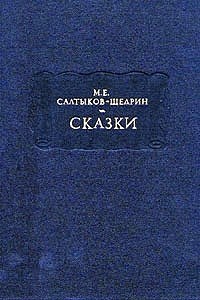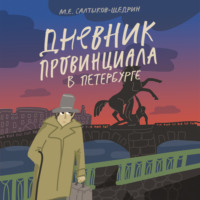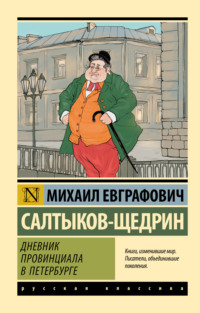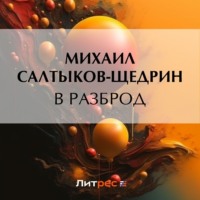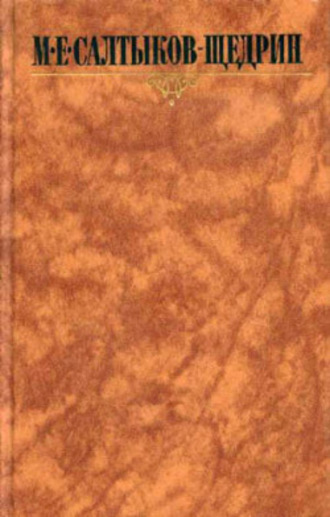 полная версия
полная версияПисьма к тетеньке
Эта полная отчужденность литературы от насущных злоб сообщала ей трогательно-благородный характер. Как будто она, как сказочная царевна, была заключена в неприступном чертоге и там дремала, окутанная сновидениями. Но в основе этих сновидений все-таки лежало "человечное", так что ежели литература не принимала деятельного участия в негодованиях и протестах жизни, то не участвовала и в ее торжествах. Вот почему и "замаранность" была в то время явлением исключительным, ибо где же и как могла "замараться" царевна, дремлющая в волшебных чертогах? Вообще руководительство жизнью составляло тогда привилегию табели о рангах и ревниво оберегалось ею от посторонних вторжений, литературе же предоставлялось стоять притиснутою в углу и пробуждать благородные чувства. Но все-таки повторяю: иногда даже под флагом благородства чувств литература упорствовала проводить нечто своеобразное, и тогда происходили коллизии, вследствие которых водворялось молчание, и царевна вновь предавалась исключительно эстетическим сновидениям.
Мне могут возразить здесь; а иносказательный рабий язык! а уменье говорить между строками? – Да, отвечу я, действительно, обе эти характерные особенности выработались во время пребывания литературы в плену и обе несомненно свидетельствуют о ее попытках прорваться сквозь неприятельскую цепь. Но ведь как ни говори, а рабий язык все-таки рабий язык, и ничего больше. Улица никогда между строк читать не умела, и по отношению к ней рабий язык не имел и не мог иметь воспитательного значения. Так что если тут и была победа, то очень и очень небольшая.
Улица заявила о своем нарождении уже на наших глазах. Она создалась сама собой, вдруг, без всякого участия со стороны литературы. Последняя, в начале пятидесятых годов, была до того истощена, измучена и отуманена, что при появлении улицы даже не выказала особенной способности к уяснению своих отношений к ней. Можно было подумать, что плен, в котором она так долго томилась, сделался ей мил. Он напоминал ей о таланте, знании и высотах ума, словом сказать, обо всем, что было затеснено, забито, но чего самая тьма не могла окончательно потемнить. Напротив того, улица с первого же раза зарекомендовала себя бессвязным галдением, низменною несложностью требований, живостью предрассудков, дикостью идеалов, произвольностью отправных пунктов и, наконец, какою-то удручающею безграмотностью. Но в то же время та же улица выказала и чуткость, а именно: она отлично поняла, что литература для нее необходима, и, не откладывая дела в долгий ящик, всей массой хлынула, чтобы овладеть ею. Две силы встретились лицом к лицу: с одной стороны, литература замученная, заподозренная и недоумевающая; с другой – улица, не только не заподозренная, но прямо, как на преимущество, ссылающаяся на родство своих идеалов с идеалами управы благочиния. Понятно, на чьей стороне должен был остаться перевес.
С появлением улицы литература, в смысле творческом, не замедлила совсем сойти со сцены, отчасти за недоступностью новых мотивов для разработки, отчасти за общим равнодушием ко всему, что не прикасается непосредственно к уличному галдению. Конечно, найдутся и теперь два-три исключения, но это уж, так сказать, "последние тучи рассеянной бури", которые набрасывают остальные штрихи в старой картине, а перед новою точно так же останавливаются в недоумении, как и все прочие. Ибо вход за кулисы посторонним (т. е. литературе) воспрещается…
По наружности кажется, что никогда не бывало в литературе такого оживления, как в последние годы; но, в сущности, это только шум и гвалт взбудораженной улицы, это нестройный хор обострившихся вожделений, в котором главная нота, по какому-то горькому фатализму, принадлежит подозрительности, сыску и бесшабашному озлоблению. О творчестве нет и в помине. Нет ничего цельного, задуманного, выдержанного, законченного. Одни обрывки, которые много-много имеют значение сырого материала, да и то материала несвязного, противоречивого. Для чего этот материал может послужить? ежели для будущего, то, право, будущее скорее сочтет более удобным совсем отвернуться от времени, породившего этот материал, нежели заботиться об его воспроизведении. Мы же, современники, читаем эти обрывки и чувствуем себя под гнетом какой-то безысходной тоски. Странное, в самом деле, положение: ни в жизни, ни в литературе – нигде разобраться нельзя. Везде суета, везде мелькание, свара, сыск, без всякой надежды на обретение мало-мальски твердой опоры, о которую могла бы притупиться эта безмысленная сутолока.
Если б представилась возможность творчески отнестись к картине этой всесторонней жизненной неурядицы, это уже был бы громадный выигрыш в смысле общественного освежения. Соберите элементы удручающей нас смуты, сгруппируйте их, укажите каждому его место, его центр тяготения – одного этого будет достаточно, чтоб взволновать честные сердца и остепенить сердца самодовольных и легкомысленных глупцов. Но тут-то именно и встречаются те неодолимые препятствия, которые на всю область творчества налагают как бы секвестр.
Дело в том, что везде, в целом мире, улица представляет собой только материал для литературы, а у нас, напротив, она господствует над литературой. Во всех видах господствует: и в виде частной инсинуации, частного насилия, и в виде непререкаемо-возбраняющей силы. И на каждом шагу ставит "вопросы", на которые сделалось как бы обязательным, до времени, закрывать глаза. Тщетно вы станете доказывать, что вопрос самый жгучий именно тогда и утрачивает значительную часть своей жгучести, когда он подвергнут открытому исследованию (допустим, даже самому страстному) – в ответ на эти убеждения вам или скажут, что вы ставите ловушку, или же просто-напросто посмотрят на вас с изумлением. Потому что улицей овладел испуг, и она ищет освободиться от него во что бы то ни стало. А так как она искони от всех недугов исцелялась первобытными средствами, вроде шиворота (в «Помоях» расшалившийся Ноздрев так-таки прямо и сулит «либеральной» прессе… розги!!), то и теперь на всякие более сложные комбинации смотрит как на злонамеренный подвиг или как на безумие.
Улица тяжела на подъем в смысле умственном; она погрязла в преданиях, завещанных мраком времен, и нимало не изобретательна. Она хочет, чтоб торжество досталось ей даром или, во всяком случае, стоило как можно меньше. Дешевле и проще плющильного молота ничего мраком времен не завещано – вот она и приводит его в действие, не разбирая, что и во имя чего молот плющит. Да и где же тут разобраться, коль скоро у всех этих уличных "охранителей" поголовно поджилки дрожат!
И заметьте, милая тетенька, везде нынче так. Везде одна внешняя суета и везде же какая-то блаженная уверенность, что искомое целение само собою придет на крик: ego vos! [55] Никогда обстоятельства более серьезные не вызывали на борьбу такого множества легкомысленных и самодовольных людей. Мы, кажется, даже забыли совсем, что для того, чтоб получить прочный результат, необходимо прежде всего потрудиться. Потрудиться не одной кожей, но и всем внутренним существом. Но, может быть, внутреннее-то существо уже до того в нас истрепалось, что и понадеяться на него нельзя…
Как бы то ни было, но литературное творчество в умалении. И едва ли я ошибусь, сказав, что тайна его исчезновения заключается не в собственном его бессилии, а в отсутствии почвы, которую оно могло бы эксплуатировать. Творчество не может сделать шага, чтобы не встретиться с "вопросом", а стало быть, и с материальною невозможностью. Приступится ли оно к жизни так называемого культурного общества – половина этой жизни представляет заповедную тайну, и именно та половина, которая всей жизни дает колорит. Спустится ли оно в глубины бытовой жизни – и там его подстерегает целая масса вопросов: вопрос аграрный, вопрос общинный, вопрос о народившемся «кулаке» и т. д. И все эти вопросы – тоже заповедная тайна, хотя в них и только в них одних лежит разъяснение всех невзгод, удручающих бытовую жизнь.
Но ежели везде, куда ни оглянись, ничего, кроме испуга и обязательной тайны, не обретается, то ясно, что самая смелая попытка разложить и воспроизвести этот загадочный мир ничего не даст, кроме беглых, не имеющих органической связи обрывков. Ибо какую же может играть деятельную роль творчество, затертое среди испугов и тайностей?
Мне скажут, быть может: но существует целый мир чисто психических и нравственных интересов, выделяющий бесконечное множество разнообразнейших типов, относительно которых не может быть ни вопросов, ни недоразумений. Да, такой мир действительно есть, и литература отлично знала его в то время, когда она, подобно спящей царевне, дремала в волшебных чертогах. Но, во-первых, типы этого порядка с таким несравненным мастерством уже разработаны отцами литературы, что возвращаться к ним значило бы только повторять зады. А во-вторых – и это главное – попробуйте-ка в настоящую минуту заняться, например, воспроизведением "хвастунов", "лжецов", "лицемеров", "мизантропов" и т. д. – ведь та же самая улица в один голос возопит: об чем ты нам говоришь? оставь старые погудки и ответь на те вопросы, которые затрогивают нас по существу: кто мы таковы? и отчего мы нравственно и материально оголтели?
Ибо никогда не была психология в фаворе у улицы, а нынче она удовлетворяется ею меньше, нежели когда-нибудь. Помилуйте! до психологии ли тут, когда в целом организме нет места, которое бы не щемило и не болело!
Но, сверх того, психический мир, на который так охотно указывают, как на тихое пристанище, где литература не рискует встретиться ни с какими недоразумениями, – ведь и он сверху донизу изменил физиономию. Основные черты типов, конечно, остались, но к ним прилипло нечто совсем новое, прямо связанное с злобою дня. Появились дельцы, карьеристы, хищники и т. д. Бесспорно, последние типы очень интересны, но ведь ежели вы начнете ваше повествование словами: "Бесшабашный советник такой-то вкупе с бесшабашным советником таким-то начертали план ограбления России" (а как же иначе начать?) – то дальше уж незачем и идти. Ибо вы сейчас же очутитесь в самом водовороте "вопросов" и именно тех вопросов, на которые до времени обязательно закрывать глаза.
Но говорят: умел же писать Пушкин? – умел! Написал же он "Повести Белкина", "Пиковую даму" и проч.? – написал! Отчего же современный художник не может обращать свою творческую деятельность на явления такого же характера, которыми не пренебрегал величайший из русских художников, Пушкин?
Ответ на это вовсе не труден. Во-первых, Пушкин не одну "Пиковую даму" написал, а многое и другое, об чем современные Ноздревы благоразумно умалчивают. Во-вторых, живи Пушкин теперь, он наверное не потратил бы себя на писание «Пиковой дамы». Ведь это только шутки шутят современные Ноздревы, приглашая литературу отдохнуть под сению памятника Пушкина. В действительности, они столь же охотно пригласили бы Пушкина в участок, как и всякого другого, стремящегося проникнуть в тайности современности. Ибо они отлично понимают, что сущность пушкинского гения выразилась совсем не в «Пиковых дамах», а в тех стремлениях к общечеловеческим идеалам, на которые тогдашняя управа благочиния, как и нынешняя, смотрела и смотрит одинаково неприязненно.
И еще скажут: есть способ и к современности относиться, не возбуждая подозрительности в улице. Знаю я такой способ и знаю, что он не раз практиковался и практикуется и именно в литературе ноздревского пошиба. Но позвольте же мне, милая тетенька, слогом литератора-публициста Евгения Маркова доложить: ведь искусство есть алтарь, на котором воскуряется фимиам человечности. Не сикофантству, а именно человечности – это уж я от себя своим собственным слогом прибавляю. Каким же образом оно, вместо того, чтобы воспроизводить в перл создания, то есть очеловечивать даже извращенные человеческие стремления, будет брызгать слюною, прибегать к митирогнозии и молотить по головам? А ведь это-то, собственно, и разумеется под "иным способом" относиться к современности.
Таким образом, творчество остается не у дел, отчасти за недоступностью материала для художественного воспроизведения, отчасти за нравственною невозможностью отнестись к этому материалу согласно с указаниями улицы. На месте творчества в литературе водворилась улица с целой массой вопросов, которые так и рвутся наружу, которых, собственно говоря, и скрыть-то никак невозможно, но которые тем не менее остаются для литературы заповедною областью. То есть именно для той единственной силы, которая имеет возможность их регулировать, сообщить им стройность и смягчить их жгучий характер.
Не думайте, однако ж, что я пишу обвинительный акт против возникновения улицы и ее вторжения в литературу – напротив того, я отлично понимаю и неизбежность, и несомненную законность этого факта. Невозможно, чтоб улица вечно оставалась под спудом; невозможно, так как, в противном случае, и в обществе и в стране прекратилось бы всякое жизненное движение. Поэтому, как только появились сколько-нибудь подходящие условия, улица и воспользовалась ими, чтоб засвидетельствовать о себе. Она создалась сама собою, без всяких предварительных подготовок; создалась, потому что имела право на самосоздание. Мало того, что она сама создалась, но и втянула в себя и табель о рангах, которая еще так недавно не признавала ее существования и которая теперь представляет, наравне с прочими случайными элементами, только составную ее часть, идущую за ее колебаниями и даже оберегающую ее право на самоистязание под гнетом всевозможных жизненных неясностей.
Но я иду еще дальше: я объясняю себе, почему улица в том виде, в каком мы ее знаем, так мало привлекательна. Почему требования ее низменны, отправные пункты дики и произвольны, а идеалы равносильны идеалам управы благочиния. Все это иначе не может и быть. Это особого рода фатальный закон, в силу которого первая стадия развития всегда принимает формы ненормальные и даже уродливые. Крестьянин, освобождающийся от власти земли, чтобы вступить в область цивилизации, тоже представляет собою тип не только комический, но и отталкивающий. Наконец, всем известен неприятный тип мещанина в дворянстве. Но это еще не значит, чтоб эмансипирующийся человек был навсегда осужден оставаться в рамках отталкивающего типа. Новые перспективы непременно вызовут потребность разобраться в них, а эта разборка приведет за собой новый и уже высший фазис развития. То же самое, конечно, сбудется и с улицей. Состояние хаотической взбудораженности, в котором она ныне находится, может привести ее только к глухой стене, и раз это случится, самая невозможность идти далее заставит ее очнуться. И тогда же начнется проверка руководивших ею идеалов, а затем и несомненное их упразднение.
Я понимаю, что все это законно и неизбежно, что улица имеет право на существование и что дальнейшие ее метаморфозы представляют только вопрос времени. Сверх того, я знаю, что понять известное явление значит оправдать его.
Но оправдать явление – одно, а жить под его давлением – другое. Вот это-то противоположение между олимпическим величием теории и болезненною чувствительностью жизни и составляет болящую рану современного человека.
Можно понимать и оправдывать пустоту, среди которой мы вращаемся, но жить в ней нестерпимо мучительно. Вот почему мы на каждом шагу встречаем людей далеко не выспренних, которые, однако ж, изнемогают, снедаемые бессознательною тоской. И я нимало не был бы удивлен, если б в этой массе тоскующих нашлись и такие, которые сами участвуют в создании пустоты. Ибо и их только незнание, где отыскать выход из обуявшей паники, может заставить упорно принимать жизненные миражи за подлинную жизнь, и легкомысленное мелькание вокруг разрозненных "вопросов" предпочитать трудной, но настоятельно требующейся проверке основных идеалов современности.
Но оставим покуда в стороне широкое русло жизни и ограничимся одним ее уголком – литературою. Этот уголок мне особенно дорог, потому что на нем с детства были сосредоточены все мои упования, и он, в свою очередь, дал мне гораздо больше того, что я достоин был получить. Весь жизненный процесс этого замкнутого, по воле судеб, мира был моим личным жизненным процессом; его незащищенность – моею незащищенностью, его замученность – моею замученностью; наконец, его кратковременные и редкие ликования – моими ликованиями. Это чувство отожествления личной жизни с жизнью излюбленного дела так сильно и принимает с годами такие размеры, что заслоняет от глаз даже ту широкую, не знающую берегов жизнь, перед лицом которой все живущее представляет лишь безымянную величину, вечно стоящую под ударом случайности.
Несомненно, что вторжение в литературу ноздревского элемента не составляет для меня загадки, и я могу довольно обстоятельно объяснить себе, что в этом факте ничего нет ни произвольного, ни неожиданного. Я признаю, что в современной русской литературе на первом плане должна стоять газета и что в этой газете должна господствовать публицистика подсиживанья, сыска и клеветы. Допускаю также появление на сцену борзописцев, которые не могут доказать, где они вчера ночевали, и у которых нет других слов на языке, кроме слов, не помнящих родства…
Все это я допускаю, объясняю себе и признаю. А стало быть, обязываюсь и оправдать.
Но отчего же я чувствую, что сердце мое мучительно ноет при виде этого зрелища? отчего я, сверх того, убежден, что оно способно возбуждать негодование не во мне одном, но и во всех вообще честных людях?
Оттого, милая тетенька, что все мы, яко человеки, не только мыслим, но и живем.
ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ
Милая тетенька.
Не дальше как вчера я был на рауте у тайного советника Грызунова (кроме медалей, имеет знак отличия мужского ордена для ношения по установлению).
Грызунов – мой школьный товарищ и, по призванию, экономист. Еще на школьной скамье он постиг некоторые экономические истины и с помощью их объяснял смущавшие нас явления.
– Грызунов! – спросишь его, бывало, – отчего Куропатка (прозвище одного из воспитанников) продал вчера Карасю (прозвище другого товарища) свою булку за два листа бумаги, а сегодня Карась за такую же булку должен был заплатить Куропатке четыре листа?
– Оттого, – разрешал Грызунов без труда, – что вчера, кроме Куропатки, предлагал Карасю свою булку еще Котенок (третий товарищ); стало быть, предложение было большое, а спрос – малый. Нынче Котенок съел свою булку сам; вследствие этого предложение уменьшилось вдвое, и сообразно с этим вдвое же увеличилась и цена булки.
Или:
– Отчего, Грызунов, монета всегда чеканится круглая, между тем как пироги с черникой безразлично пекутся и круглые, и овальные, и четырехугольные?
– Оттого, – объяснял он, – что обыкновенно монету носят в кармане; стало быть, если б ее чеканили, например, четырехугольною, то, беспрерывно цепляясь углами за подкладку кармана, она продырила бы ее быстрее, нежели желательно. Пироги же кладутся не в карман, а в рот и, будучи мягки, доходят по назначению, ничего не продырив.
За быстроту, с которою давались эти ответы, Грызунову было дано прозвище восьмого мудреца, а так как мы были тогда того мнения, что плохой тот школяр, который не надеется быть министром, то на долю Грызунова самым естественным образом выпадал портфель министра финансов. С тем мы и вышли из школы.
С тех пор прошли годы. Грызунов немедленно принялся оправдывать возлагаемые на него надежды. Сначала он сделался "нашим молодым и блестящим экономистом", потом "нашим известным экономистом" и, наконец, – "нашим маститым экономистом". Писал он изобильно и легко, писал обо всем, об чем взгрустнется. И об том, отчего мы бедны, и об том, отчего у нас во всем изобилие; и о том, что изобилие уменьшает цену на предметы, и о том, что хотя, вообще говоря, изобилие и уменьшает цену на предметы, но «в то же время, до известной степени, и увеличивает ее». Словом сказать, возьмет из кучи любой вопрос и без труда на него ответит. Природа даровала ему железную поясницу и чугунное при ней днище, и он с признательностью пользовался этим даром. Сядет, посидит, и сколько посидит, столько и напишет. Урвет что-нибудь у Бастиа, или у Рикардо, или даже у Кокорева («нечто о глазомере в связи с смекалкою»), а скажет, что сам выдумал. И, написавши, сидит некоторое время дома и ждет, что его позовут: пожалуйте, Иван Александрыч, министерством управлять! Ждал он таким образом целых двадцать пять лет, его не раз звали, но всегда дело оканчивалось тем, что его же спрашивали: ах, об чем бишь нужно было с вами поговорить? Значит, звать звали, а призвать не призвали. Как это случилось, он не понимает, да и я, признаться, не понимаю. Человек знает, отчего монета кругла (а может быть, и отчего кругла земля?), а никому до этого как будто дела нет. Не повезло ему – вот и все. Иногда он впадал в уныние от этой несправедливости, но вера, что никому в целой России не известны так близко тайны спроса и предложения (а это, тетенька, позамысловатее «Тайн мадридского двора») – спасала его. Несмотря на длинный ряд неудач и разочарований, всякий раз (и это в течение всего двадцатипятилетнего периода!), как в известных сферах возникало движение, он вновь начинал волноваться, надеяться и ждать. Несомненно, ждет и поднесь.
Это постоянное, странно-выжидательное состояние оказывает известное влияние и на его отношения к людям. Когда в воздухе носятся либеральные веяния, он льнет к либералам, а консерваторов называет изменниками. Когда на рынке в цене консерватизм, он прилепляется к консерваторам и называет изменниками либералов. Но это в нем не предательство, а только следствие слишком живучего желания пристроиться.
Я думаю, что Грызунов не жаден и охотно удовольствовался бы половинным содержанием, если б его призвали. Я даже думаю, что, в сущности, он и не честолюбив. Он просто знает свои достоинства и ценит – вот и все. Но так как и другие знают свои достоинства и ценят их, то он и затерялся в общей свалке.
В последнее время он как-то особенно всполошился. Видит, что пустого места много, а людей, знающих достоверно, отчего монета кругла, – нет. Притом же fugaces labuntur anni [56], ему уж шестой десяток в исходе, а он все еще ни при чем. Надо ловить. Поэтому он с утра до вечера мелькает, с утра до вечера всем и каждому предлагает вопросы по всем отраслям человеческого ведения и сам же на них отвечает. И всё вопросы труднейшие, так что только в «Задачнике» Малинина и Буренина и можно такие встретить. У разносчика был лоток с апельсинами, сто из них он продал, два сам съел, три (с пятнышками) бедным мальчикам роздал, а пять подарил околоточному – сколько всех апельсинов было? Другой такой же претендент на пост или задумается, прежде нежели ответит, или ответит уклончиво, что бабушка надвое сказала, а Грызунов – быстро, отчетливо, звонко: сто десять! Сверх того, чтобы удовлетворить сжигающей его жажде деятельности, он устроил у себя по субботам рауты и, кого ни встретит, всех приглашает: «Субботы не забудьте… это страм!!»
То есть не субботы "страм", а то, что требуются почти нечеловеческие усилия, чтобы устроить по субботам обмен мыслей. Но в хлопотах он не договаривает фразы и спешит хлопотать дальше. И всякому что-нибудь на ходу скажет. Одному – что ввиду общего врага все партии, и либералы и консерваторы, должны в субботу подать друг другу руки; другому – что теперь-то именно, то есть опять-таки в будущую субботу, и наступила пора сосчитаться и покончить с либералами, признав их сообщниками, попустителями и укрывателями превратных толкований; третьему: "слышали, батюшка, что консерваторы-то наши затеяли – ужас! а впрочем, в субботу поговорим!"
Каким образом весь этот разнокалиберный материал одновременно в нем умещается – этого я объяснить не могу. Но знаю, что, в сущности, он замечательно добр, так что стоит только пять минут поговорить с ним, как он уже восклицает: вот мы и объяснились! Даже в том его убедить можно, что ничего нет удивительного, что его не призывают. Он выслушает, скажет: тем хуже для России! – и успокоится.
Таких Лжедимитриев нынче, милая тетенька, очень много. Слоняются, постылые тушинцы, вторгаются в чужие квартиры, останавливают прохожих на улицах и хвастают, хвастают без конца. Один – табличку умножения знает; другой – утверждает, что Россия – шестая часть света, а третий без запинки разрешает задачу "летело стадо гусей". Все это – права на признательность отечества; но когда наступит время для признания этих прав удовлетворительными, чтобы стоять у кормила – этого я сказать не могу. Может быть, и скоро.
Меня Грызунов долгое время любил; потом стал не любить и называть "красным"; потом опять полюбил. В каком положении находятся его чувства ко мне в настоящую минуту, я определить не могу, но когда мы встречаемся, то происходит нечто странное. Он смотрит на меня несомненно добрыми глазами, улыбается… и молчит. Я тоже молчу. Это значит, что мы понимаем друг друга. Но всякая наша встреча непременно кончается тем, что он скажет: