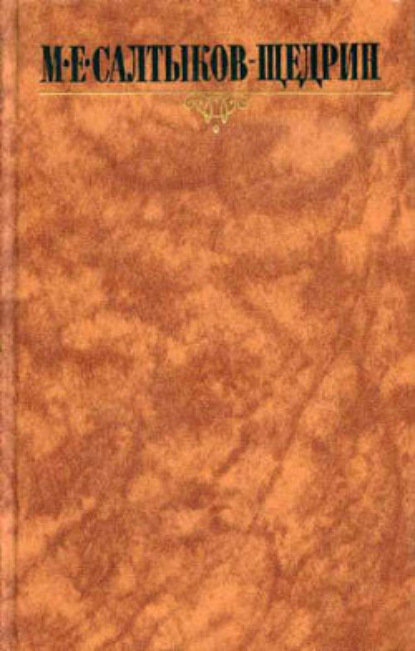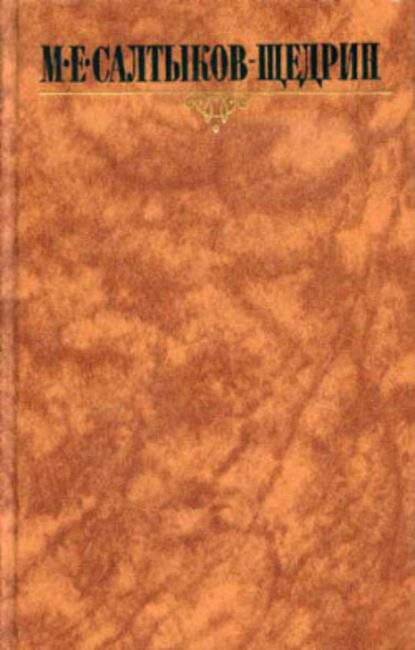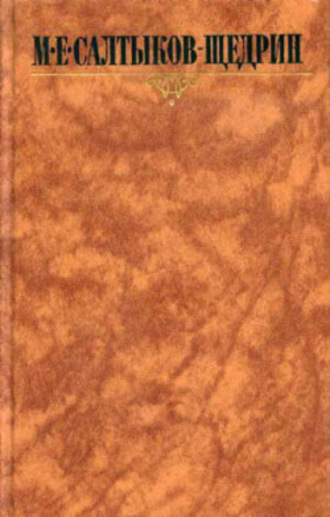 полная версия
полная версияЗа рубежом
– Ах! – невольно вырвалось у меня.
– Да? Ну, и прекрасно… Действительно, я… ну, допустим! Согласитесь, однако ж, что можно было придумать и другое что-нибудь… Ну, пригрозить, обругать, что ли… А то: Пинега!! Да еще с прибаутками: морошку собирать, тюленей ловить… а? И это ад-ми-ни-стра-торы!! Да ежели вам интересно, так я уж лучше все по порядку расскажу!
Но в эту минуту дверь соседней комнаты отворилась, и оттуда появилась m-me Старосмыслова. Это была маленькая особа, очень живая и делавшая над собою видимые усилия, чтоб показать, что она не разделяет уныний своего мужа. Наружность она имела не особенно выдающуюся, но симпатичную, свидетельствующую о подвижной и деятельной натуре. Словом сказать, при взгляде на Старосмыслова и его подругу как-то невольно приходило на ум: вот человек, который жил да поживал под сению Кронебергова лексикона, начиненный Евтропием и баснями Федра, как вдруг в его жизнь, в виде маленькой женщины, втерлось какое-то неугомонное начало и принялось выбрасывать за борт одну басню за другой. Тут-то вот и сочинился сам собой период от слов: "время, которое мы переживаем", до слов: "оное переносить", включительно. А из периода, в виде естественного привеса, явилась – Пинега!!
– Федор Сергеич, вероятно, вам на судьбу жалуется? – обратилась она ко мне после взаимных представлений, – и охота, право! Забыть надо, а он себя все пуще да пуще раздражает. Кончилось ведь?
– Кончилось ли оно – это еще бабушка надвое сказала! да и не в этом дело: факт-то, факт-то какой! Фраза… ну, положим, пустая! ну, вредная, что ли! Но каким же образом из фразы вдруг выскочила… Пинега?! – оправдывался Старосмыслов.
– Но ведь мы не в Пинеге, а в Париже!
– Позвольте, Капитолина Егоровна, – вступился я, – ваш муж начал рассказывать… Конечно, Пинега, сама по себе взятая, есть лишь административный термин, настолько вошедший в наш административный обиход, что немногие администраторы в состоянии понять всю жестокость его. Я лично знал на своем веку одного администратора, который в полюсы не верил и для которого поэтому все города были равны. Вот он и говорит, бывало: ты ступай в Пинегу, ты – в Пустозерск, а ты – в Верхоянск! Но Пинега, превратившаяся в Париж, – это что-то уж чрезвычайное! Федор Сергеич! объясните, сделайте милость!
– Да-с, так вот сидим мы однажды с деточками в классе и переводим: "время, нами переживаемое"… И вдруг – инспектор-с. Посидел, послушал. А я вот этой случайности-то и не предвидел-с. Только прихожу после урока домой, сел обедать – смотрю: пакет! Пожалуйте! Являюсь. "Вы в Пинеге бывали?" – Не бывал-с. – "Так вот познакомьтесь". Я было туда-сюда: за что? – "Так вы не знаете? Это мне нравится! Он… не знает! Стыдитесь, сударь! не увеличивайте вашей вины нераскаянностью!"
Старосмыслов остановился и смотрел на меня в упор, тяжело дыша.
– Понимаете… точно сон! – вымолвил он задавленным голосом.
– Ах, голубчик! ты видишь, как это волнует тебя! – с участием вступилась Капитолина Егоровна, – лучше бы уж ты мне предоставил рассказать!
– Нет, это только я могу рассказать… я! Кто сам испытал это впечатление, только тот и может его передать!
Последовало несколько минут тяжелого молчания.
– Но как же вы, вместо Пинеги, в Париже очутились? – продолжал настаивать я.
– И опять словно во сне. Уж совсем было ехать в Пинегу собрался, да вдруг случайно… вот она напомнила, что лет пять тому назад давал я уроки сыну одного власть имеющего лица. Ну, думаю: последнее средство… Посылаю телеграмму-с… Смотрю, на другой день – тихо, на третий – опять тихо. А через неделю вызывает меня уж мой собственный начальник: "Знаете ли вы, говорит, правило: Tolle me, mu, mi, mis, si declinare domus vis?.." 8 [149] – Знаю, ваше превосходительство! – Так вот, говорит, нам необходимо удостовериться, везде ли в заграничных учебных заведениях это правило в такой же силе соблюдается, как у нас… Извольте получить паспорт!
Старосмыслов опять остановился, как бы вопрошая, как я об этом полагаю. Но рассказ этот до того спутал все мои расчеты, что я долгое время ровно ничего не мог полагать. И вдруг у меня в голове сверкнула мысль:
– А прогоны и порционные вам выдали?
Старосмыслов недоумело взглянул на меня: очевидно, он никак этого вопроса не ожидал.
– Ну… что уж! – как-то уныло отозвался он. Однако я подметил, что в самой унылости его уже блеснула как бы надежда.
– Нет, вы этого не говорите! – ободрил я его, – я согласен, что рассказ ваш походит на сновидение, но, с другой стороны, какое же русское сновидение обходится без прогонов и порционов?
– Так-то так…
Старосмыслов задумался и вдруг – хихикнул! Разумеется, я воспользовался этим поворотом, чтоб еще более утвердить его на этом пути.
– Нет, Федор Сергеич! вы этого не оставляйте! вы подумайте об этом! – повторил я.
– А что ты думаешь, Капочка! – отозвался он уже весело, – ведь это в своем роде…
Капитолина Егоровна только потихоньку засмеялась в ответ. Она не решалась прямо открыться, но мое предложение, очевидно, разогрело и ее.
– По моему мнению, и откладывать нечего, – настаивал я, – самое лучшее, сейчас же берите лист бумаги и пишите: "Просит… а о чем, тому следуют пункты… Первое: был, дескать, я тогда-то командирован с ученою целью, но распоряжения об отпуске прогонных денег, по упущению, не сделано. Второе: а так как, мол, для вящего успеха возложенного на меня поручения"… Вот только поручение-то какое-то странное на вас возложили. «Tolle me, mu, mi, mis…» согласитесь, что это даже для сновидения несколько рискованно! Вот если б вам поручили изучить и описать мундиры, присвоенные учителям латинского языка, или, например, собственными глазами удостовериться, к какому классу эти учителя причислены по должности и по пенсии… и притом, в целом мире! А то подумайте: «Tolle me, mu, mi, mis» – на что похоже! И как это вы в ту пору не догадались!
– Помилуйте! до догадок ли мне было! я, как ошалелый, бегал, денег искал…
– Ну, так вы вот что сделайте. Напишите все по пунктам, как я вам сказал, да и присовокупите, что, кроме возложенного на вас поручения, надеетесь еще то-то и то-то выполнить. Это, дескать, уж в знак признательности. А в заключение: "и дабы повелено было сие мое прошение"…
– И вы полагаете, дадут?
– Не только полагаю, но совершенно утвердительно говорю: не могут не дать. Вот если б вы, при вручении паспорта, попросили – ну, тогда, может быть, вам сказали бы: а в таком случае не угодно ли вам получить подорожную в Пинегу? Но теперь… теперь, батюшка, ваше дело верное! Человек вы легальный и командированы на законном основании; а коль скоро все произошло на законном основании, следовательно, вы имеете право воспользоваться и всеми естественными последствиями этой законности. Вы уже теперь даже не Старосмыслов, а просто X., без выдачи прогонных денег которому дело в архив сдать нельзя.
– А что вы думаете! ведь и в самом деле!
– До такой степени "в самом деле", что, даже в эту самую минуту, я убежден, сам столоначальник, у которого ваше дело в производстве, тоскует о том, какую бы формулу придумать, чтобы вам прогоны всучить! А тут вы как раз с прошением: вот он я! Капитолина Егоровна! да поддержите же вы меня!
– Что ж, попробуй, мой друг! – томно отозвалась Капитолина Егоровна.
Так мы и сделали. Вместе сочинили прошение, которое он зарукоприкладствовал и сейчас же отправил с надписью rИcommandИ.[150] Признаюсь, я с особенной любовью настаивал, чтоб прошение было по пунктам и написано и зарукоприкладствовано. Помилуйте! одно то чего стоит: сидят люди в Париже и по пунктам прошение сочиняют! Чрезвычайность этого положения до такой степени взволновала меня, что я совсем забылся и воскликнул:
– Ну, а теперь возьмите малую толику подмазочки – и айда в земский суд прошение подавать!
Разумеется, все, а в том числе и я первый, рассмеялись моей рассеянности. Но я был и тому уж рад, что мне удалось хоть на минутку расцветить улыбкой лицо этого испуганного человека.
От Старосмысловых я направился к Блохиным и встретил совсем другого сорта людей. Передо мной предстал человек еще молодой, лет тридцати, красивый, крепко сложенный, с румяным лицом и пушистою светлою бородой. Словом сказать, во всех статьях "добрый русский молодец". Под стать ему была и жена его, Зоя Филипьевна, женщина рослая, сложенная на манер Венеры Милосской, с русским круглым и смугло-румяным лицом, на котором алели пунцовые губы и несколько чересчур пристально выглядывали из-под соболиных бровей серые выпученные глаза. С ними же была и старшая сестра Блохина, пожилая девица, сырой комплекции (в форме средних размеров кулебяки), одержимая легким удушьем, но замечательно добродушная, общительная и повадливая. Вообще при взгляде на эту семью думалось: вот-вот они сейчас схватятся руками и начнут песни играть. Сперва запоют: "Как по морю да по Хвалынскому, да выплывала лебедь белая"; потом начнут: "Во поле березынька стоя-а-ала", потом и еще запоют, и будут не переставаючи петь вплоть до заутрень. И спляшут при этом: она пройдет серой утицей, он – сизым селезнем. Но как и зачем они попали в Париж? – это была загадка, которую они и сами вряд ли могли объяснить. Во всяком случае, они адски скучали в разлуке с Красным Холмом.
– Главная причина, языка у нас нет, – сразу пожаловался мне Блохин, – ни мы не понимаем, ни нас не понимают. Надо было еще в Красном Холму это рассудить, а мы думали: бог милостив! Вот жена хоть и на пальцах разговаривает, однако, видно, бабам бог особенное дарование насчет тряпья дал – понимают ее. Придет это в магазин, сейчас гарсон встречу: мадам! Понравится ей вещь – она ему палец покажет, а он ей в ответ – два пальца. Потом она полпальца прибавит, а он четь пальца отбавит: будьте, значит, знакомы! Смотришь – и снюхались. Ишь вороха натаскала!
Я огляделся кругом и действительно изумился. Вся комната была буквально загромождена картонками, тючками, платьями, мантильями и прочим женским хламом. Только и было свободного места, где мы сидели.
– Кабы не Капитолина Егоровна с Федором Сергеичем – и голодом, пожалуй, насиделись бы! – в свою очередь пожаловалась Матрена Ивановна.
– Да и с Федор Сергеичем нелады вышли. Мы-то, знаете, в Париж в надежде ехали. Наговорили нам, в Красном-то Холму: и дендо, и пердро, тюрбо 9…. Аппетит-то, значит, и вышлифовался. А Федору Сергеичу в хороший-то трактир идти не по карману – он нас по кухмистерским и водит! Только уж и еда в этих кухмистерских… чистый ад!
– А попробовали раз сами собой в трактир зайти, стали кушанье-то заказывать, а он, этот… гарсон, что ли, только глаза таращит!
– Да еще что вышло! Подслушал этта наш разговор господин один из русских и заступился за нас, заказал. А после обеда и подсел к нам: не можете ли вы, говорит, мне на короткое время взаймы дать? Ну, нечего делать, вынул пятифранковик, одолжил.
– Да вы бы в русский ресторан сходили?
– Были-с. Помилуйте – биток! Затем ли мы из Красного Холма сюда ехали, чтоб битки здешние есть?
– Ни в театр, ни на гулянье, ни на редкости здешние посмотреть! Сидим день-деньской дома да в окошки смотрим! – вступилась Зоя Филипьевна, – только вот к обедне два раза сходили, так как будто… Вот тебе и Париж!
– Но отчего ж бы вам с Старосмысловыми в театр не сходить?
– То-то, что сердцами, значит, не сошлись, да и не то, чтоб сердцами, а капиталом они против нас как будто отощали. Чудной ведь он! Ото всех прячется, да высматривает, какого-то, прости господи, Пафнутьева поджидает…
– Ах, боже мой! вот чудак-то!
– И я тоже пытал говорить. Как, говорю, возможно, чтоб господин Пафнутьев в Париже власть имел! И хоть бы что! "Бреслеты, говорит, на руки, и катай по всем по трем!" Оченно уж его там испугали, в отечестве-то! А человек-то какой преотличнейший! И как свое дело знает! Намеднись идем мы вместе, и спрашиваю я его: как, Федор Сергеич, на твоем языке "люблю" сказать? – Amo, говорит. "Ну, говорю, amo и тебя, и Капитолину Егоровну твою, и я, и жена, и все мы – amo!" Ну, усмехнулся: коли все, говорит, так уж не amo, а amamus! И за что только такая на них напасть!
– Ну, бог милостив!
– И я тоже говорю. Только сердитые нынче времена настали, доложу вам! Давно уж у бога милости просим – ан все ее нет!
– Вам-то, впрочем, грешно бы пожаловаться.
– Мы-то – слава богу. Здоровы, при капитале – на что лучше! А тоже и мы видим. Вот хоть бы на Федора Сергеича поглядеть – чего только он не вытерпел! Нет, доложу вам, и прежде строгости были, а нынче против прежнего вдвое стало. А между прочим, в народе амбиция в ход пошла, так оно будто и скучненько стало на строгости-то смотреть. Еще на моей памяти придет, бывало, к батюшке-покойнику становой-то: просто, мило, благородно! Посидит, закусит… Делов за нами нет, а по силе возможности… получи. А нынче он придет: в кепИ да в погонах… ах, распостылый ты человек!
– Ну, это уж ваше личное чувство говорит.
– Нет, и не во мне одном, а во всех. Верьте или нет, а как взглянешь на него, как он по улице идет да глазами вскидывает… ах ты, ах!
– Ах, Захар Иваныч!
– Знаю, что нехорошо это… Не похвалят меня за эти слова… известно! Только уж и набалованы они, доложу вам! Строгости-то строгостями, ан смотришь, довольно и озорства. Все "духу" ищут; ты ему сегодня поперек что-нибудь сказал, а он в тебе завтра "дух" разыскал! Да недалече ходить, Федор Сергеич-то! Что только они с ним изделали!
– Уж так нам их жалко! так жалко! – подтвердила и Матрена Ивановна.
– Истинно вам говорю: глядишь это, глядишь, какое нынче везде озорство пошло, так инда тебя ножом по сердцу полыснет! Совсем жить невозможно стало. Главная причина: приспособиться никак невозможно. Ты думаешь: давай буду жить так! – бац! живи вот как! Начнешь жить по-новому – бац! живи опять по-старому! Уж на что я простой человек, а и то сколько раз говорил себе: брошу Красный Холм и уеду жить в Петербург!
– За чем же дело стало?
– Свово места жалко – только и всего.
– Известно, жалко: и дом, и заведение, и все… – подтвердила и Матрена Ивановна.
– А вам жалко? – обратился я к Зое Филипьевне.
– Мне что! я мужняя жена! вон он, муж-то у меня какой!
– Ах, умница ты наша! – похвалила Матрена Ивановна.
– Вы долго ли думаете в Париже пробыть?
– Да свое время отсидеть все-таки нужно. С неделю уж гостим, еще недели с две – и шабаш.
– Так знаете ли, что мы сделаем. И вам скучно, и Старосмысловым скучно, и мне скучно. Так вот мы соединимся вместе, да и будем сообща скучать. И заведем мы здесь свой собственный Красный Холм, как лучше не надо.
– И преотлично! – разом воскликнули Блохины.
– Я буду вас и по ресторанам и по театрам водить. И все по таким театрам, где и без слов понятно. А ежели Старосмыслову прогоны и порционы разрешат, так и они, наверное, жаться не будут.
Я рассказал им, какую мы утром просьбу общими силами соорудили и какие надежды на нее возлагаем. И в заключение прибавил:
– А в Париже надоест, так мы в Версаль, вроде как в Весьёгонск махнем, а захочется, так и в Кашин… то бишь, в Фонтенбло – рукой подать!
* * *Итак, осуществить Красный Холм в Париже, Версаль претворить в Весьёгонск, Фонтенбло в Кашин 10 – вот задача, которую предстояло нам выполнить.
С первого взгляда может показаться, что осуществление подобной программы потребует сильного воображения и очень серьезных приспособлений. Но в сущности, и в особенности для нас, русских, попытки этого рода решительно не представляют никакой трудности. Не воображение тут нужно, а самое обыкновенное оцепенение мысли. Когда деятельность мысли доведена до минимума и когда этот минимум, ни разу существенно не понижаясь, считает за собой целую историю, теряющуюся в мраке времен, – вот тут-то именно и настигает человека блаженное состояние, при котором Париж сам собою отождествляется с чем угодно: с Весьёгонском, с Пошехоньем, с Богучаром и т. д. Мыслительная способность атрофируется и вместе с этим исчезает не только пытливость, но и самое простое любопытство. Старое, насиженное, обжитое – вот единственное, что удовлетворяет обессиленный ум. И это насиженное воспроизводится с такою легкостью, что само собою, помимо всякого содействия со стороны воображения, перемещается следом за человеком, куда бы ни кинула его судьба.
Восстановить Красный Холм в Париже положительно ничего не стоит. Нужно только разложиться с вещами и затем начать жить да поживать. Правда, что житье в отеле, сравнительно с Красным Холмом, покажется тесновато, но зато в Париже имеются льготы, которых не найдешь не только в Красном Холму, но и в Кашине. И льготы именно в Краснохолмском смысле, то есть такие, которых на месте не сыщешь, но которые Краснохолмским воображением не отвергаются. Таковы, например: пулИ, дендС, пердрС, тюрбС, славу о которых на всю Россию искони протрубили предводители дворянства. Затем: магазины всевозможного женского тряпья, от которых без ума все предводительши, макадам на улицах, отличное уличное освещение, писсуары и т. д., о которых с благосклонностью отзываются все уездные исправники, как о таких реформах, которые не ведут к потрясанию основ. И в довершение всего, есть для мужчин кокотки, вроде той, какую однажды выписал в Кашин 1-й гильдии купец Шомполов и об которой весь Кашин в свое время говорил: ах, хороша стерьва!
В Париже отличная груша дюшес стоит десять су, а в Красном Холму ее ни за какие деньги не укупишь. В Париже бутылка прекраснейшего ПонтИ-КанИ стоит шесть франков, а в Красном Холму за Зызыкинскую отраву надо заплатить три рубля. И так далее, без конца. И все это не только не выходит из пределов Краснохолмских идеалов, но и вполне подтверждает оные. Даже театры найдутся такие, которые по горло уконтентуют самого требовательного Краснохолмского обывателя.
Когда воображение потухло и мысль заскербла, когда новое не искушает и нет мерила для сравнений – какие же могут быть препятствия, чтоб чувствовать себя везде, где угодно, матерым Краснохолмским обывателем. Одного только недостает (этого и за деньги не добудешь): становой квартиры из окна не видать – так это, по нынешнему времени, даже лучше. До этого-то и краснохолмцы уж додумались, что становые только свет застят.
– Как пошли они, в позапрошлом лете, по домам шарить, так, верите ли, душа со стыда сгорела! – говорил мне Блохин, рассказывая, как петербургские "события" 11 отразились в районе вышневолоцко-весьёгонских палестин.
И он говорил это с неподдельным негодованием, несмотря на то, что его репутация в смысле "столпа" стояла настолько незыблемо, что никакое "шаренье" или отыскивание "духа" не могло ему лично угрожать. Почему он, никогда не сгоравший со стыда, вдруг сгорел – этого он, конечно, и сам как следует не объяснит. Но, вероятно, причина была очень простая: скверно смотреть стало. Всем стало скверно смотреть; надоело.
Как бы то ни было, но, раз решившись воспроизводить исключительно Краснохолмские идеалы, мы зажили отлично. Единственную не Краснохолмскую роскошь, которую я лично себе дозволил, – это газеты. Я покупал их ежедневно и притом самые страшные: "L'Intransigeant", "Le Mot d'Ordre", "La Commune", "La Justice" 12. Что делать! идешь мимо киоска, видишь: разложены, стало быть, велено покупать – купишь. Сначала я боялся, думал, начитаюсь, приеду в Россию – чего доброго, революцию произведу. Однако, с божьею помощью, в короткое время так наметался, что все равно, что читал, что нет. Зато все остальное времяпровождение было воистину Краснохолмское. Часов до 12-ти утра мы исправлялись дома, то есть распивали чаи и кофеи по своим углам. После 12-ти выходили на улицу и начинали, по выражению Захара Иваныча, «кутаться» и «воловодиться».
Брали под руки дам и по порядку обходили рестораны. В одном завтракали, в другом просто ели, в третьем спрашивали для себя пива, а дамам "граниту". Когда ели, то Захар Иваныч неизменно спрашивал у Старосмыслова: а как это кушанье по-латыни называется? – и Федор Сергеич всегда отвечал безошибочно.
– Никогда не скажет: не знаю! – изумлялся Блохин, – и этакого человека… в Пинегу!
В промежутках между кушаньями вспоминали о Красном Холме, старались угадать: рыжики-то уродились ли ноне?
Часа в три компания распадалась. Дамы предпринимали путешествие по магазинам, а мужчины отправлялись смотреть "картинки". Во время процесса смотрения Захар Иваныч взвизгивал: ах, шельма! и спрашивал у Федора Сергеича, как это называется по-латыни. Но однажды зашли мы в пирожную, и с Блохиным вдруг сделалось что-то необыкновенное.
– Она… она самая! – шепнул он мне, указывая на рослую и совершенно рыжую женщину, которая стояла у конторки. – Наша… кашинская!
И не успел я сообразить, в чем дело, как у него уж и глаза кровью налились.
– В Кашине… была? – спросил он ее в упор. Конторщица взглянула на него с недоумением, но по лицу ее пробежала чуть заметная улыбка: ей, очевидно, польстило, что "доброго русского молодца" так сразу прошибло.
– В Кашине… была? – настаивал Захар Иваныч. Насилу мы его увели.
Часов около шести компания вновь соединялась в следующем по порядку ресторане и спрашивала обед. Если и пили мы всласть, хотя присутствие Старосмысловых несколько стесняло нас. Дня с четыре они шли наравне с нами, но на пятый Федор Сергеич объявил, что у него болит живот, и спросил вместо обеда полбифштекса на двоих. Очевидно, в его душу начинало закрадываться сомнение насчет прогонов, и надо сказать правду, никого так не огорчало это вынужденное воздержание, как Блохина.
– Ведь вот и добрый человек, а сколь жесток! – жаловался он мне, – не хочет понять, что нам не деньги его нужны, а душа.
После обеда иногда мы отправлялись в театр или в кафе-шантан, но так как Старосмысловы и тут стесняли нас, то чаще всего мы возвращались домой, собирались у Блохиных и начинали играть песни. Захар Иваныч затягивал: "Солнце на закате", Зоя Филипьевна подхватывала: "Время на утрате", а хор подавал: "Пошли девки за забор"… В Париже, в виду Мадлены 13, в теплую сентябрьскую ночь, при отворенных окнах, – это производило удивительный эффект!
Иногда обычный репертуар дня видоизменялся, и мы отправлялись смотреть парижские "редкости". Ездили в Jardin des plantes[151] и в Jardin d'acclimatation,[152] лазили на Вандомскую колонну, побывали в Musee Cluny и, наконец, посетили Луврский музей. Но тут случился новый казус: увидевши Венеру Милосскую, Захар Иваныч опять вклепался и стал уверять, что видел ее в Кашине. Насилу мы его увели.
– При тебе только мы и свет узрили! – открывался мне Захар Иваныч, – кабы не ты, что бы мы, приехадчи в Холм, про Париж рассказывать стали?
Насладившись вдоволь Парижем, нельзя было оставить без внимания и окрестности. Разумеется, прежде всего отправились в Версаль. Дорогой я, конечно, не преминул рассказать, какую я, пять лет тому назад, выкинул тут штуку с ЛабулИ. Все так и ахнули.
– То-то, чай, глаза вытаращил, как проснулся! – похвалил меня Блохин.
И, помолчав немного, прибавил:
– Только через тебя мы свет узрили! ишь ведь ты… на все руки!
В Версали мы обошли дворец, затем вышли на террасу и бросили общий взгляд на сад. Потом прошлись по средней аллее, взяли фиакры и посетили "примечательности": Parc aux cerfs,[153] Трианон и т. п. Разумеется, я рассказал при этом, как отлично проводил тут время Людовик XV и как потом Людовик XVI вынужден был проводить время несколько иначе. Рассказ этот, по-видимому, произвел на Захара Иваныча впечатление, потому что он сосредоточился, снял шляпу и задумчиво произнес:
– Стало быть, в эфтим самом месте энти самые короли…
– Именно так, – подтвердил я.
– Все короли да все Людовики… И что за причина такая? – с своей стороны затужила было Матрена Ивановна, но Захар Иваныч не дал ей продолжать.
– Шабаш! – сказал он, – царство небесное – и кончен бал!
Однако ж через несколько минут он вновь возвратился к тому же сюжету.
– И как эти французы теперича без королей живут? Чудаки, право!
– А как живут! Известно: день да ночь – сутки прочь! – объяснила Матрена Ивановна.
– Не иначе, что так. У нас робенок, и тот понимает: несть власть аще…14 а француз этого не знает! А может, и они слышат, как в церквах про это читают, да мимо ушей пропущают! Чудаки! Федор Сергеич! давно хотел я тебя спросить: как на твоем языке «король» прозывается?
– Rex.
– А инператор?
– Imperator.
– А который, по-твоему, больше: rex или imperator?
– Imperator – уж на что выше!
– Ну, так вот ты и мотай себе на ус… да!
Блохин выговорил эти слова медленно и даже почти строго. Каким образом зародилась в нем эта фраза – это я объяснить не умею, но думаю, что сначала она явилась так, а потом вдруг во время самого процесса произнесения, созрел проекте попробую-ка я Старосмыслову предику сказать! А может быть, и целый проект примирения Старосмыслова с Пафнутьевым вдруг в голове созрел. Как бы то ни было, но Федор Сергеич при этом напоминании слегка дрогнул.