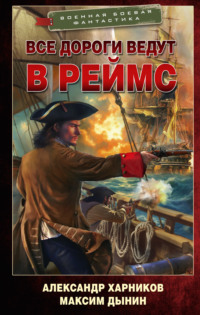Полная версия
Турецкий марш
– Батюшка, скажите, а вы, случаем, не отец ли Дамиан?
– Аз есмь…
– Батюшка, благословите! Про вас рассказывают, как вы ходили в атаку с солдатами и под Силистрией, и под Альмой, перевязывали раненых обрывками рясы, а потом вытаскивали их с поля боя на своем горбу. И офицеров, и простых солдат, и казаков.
– Слушай больше, – усмехнулся я. – Ты из меня прямо какого-то Анику-воина хочешь сделать. – И, пока он собирался с мыслями, чтобы ответить мне, благословил его и вышел на улицу.
Из соседнего фургона послышался жаркий спор на неизвестном мне языке. Заглянув, я увидел штабс-капитана Домбровского и все ту же барышню, которая всплеснула руками и выбежала прочь. Я же подошел к штабс-капитану и спросил:
– Сын мой, не хочешь ли ты исповедоваться?
После исповеди тот попросил меня:
– Батюшка, прошу вас, поговорите с моей невестой.
– Так это была твоя невеста?
– Да, батюшка – она сестра Крестовоздвиженской общины. Зовут ее Мейбел Катберт. А теперь, после Святого крещения – Аллой Ивановной.
– Мейбел? Она что у тебя – англичанка?
– Да нет, батюшка, она из Североамериканских Соединенных Штатов. Именно Мейбел стреляла по туркам и спасла мне жизнь. Но, прошу вас, скажите вы ей, что нельзя ей здесь оставаться, ведь ее могут убить!
– А что она тебе об этом сказала?
– Говорит, что я ранен и что меня нужно срочно эвакуировать в тыл. Я не ранен, батюшка, меня лишь ударил копытом конь, и я вполне могу обойтись без лазарета!
– А ее, значит, нужно отправить подальше от того места, где стреляют?..
– Батюшка, я не хочу ее потерять!
– А если вас убьют? Вы об этом подумали? Тем более что вы и в самом деле не вполне здоровы.
– Ну, ничего тут не поделаешь, она найдет другого. А я без нее не могу.
– Ладно, сын мой, поговорю я с вашей невестой. Но то, что она делает, – ее свободная воля, не забывайте об этом.
Как я и предполагал, Алла Ивановна наотрез отказалась уезжать из лазарета, заодно попросив меня уговорить ее жениха отправиться на лечение. Но когда я вернулся к Николаю Максимовичу, то увидел пустую койку. Оказалось, что он попросту сбежал, сказав соседу по фургону, что уходит потому, что хочет непременно остаться в действующей армии.
17 (5) ноября 1854 года.
Османская империя. Варна
Утро, после ночи взрывов, пожаров и паники, когда толпы обезумевших от ужаса людей топтали друг друга на узких улочках Варны, не принесло покоя командованию гарнизона города. Со всех сторон в штаб поступали донесения и все они были нерадостными. Интенданты присылали пухлые отчеты об уничтоженном военном имуществе, продовольствии и боеприпасах. Причем теперь уже невозможно было проверить, на самом ли деле все, подробно перечисленное в бумагах, действительно погибло в огне, или же оно было перепрятано во время ночного переполоха. Можно было, конечно, потом все перепроверить, но сейчас было просто не до этого.
Командиры частей гарнизона докладывали о больших потерях. При этом трудно было понять, были ли их подчиненные убиты, или ранены, или же они дезертировали, воспользовавшись царящей в городе паникой и неразберихой. Особенно это касалось насильственно призванных в турецкую армию христиан, которых обычно держал в повиновении страх наказания, а также семьи, остававшиеся заложниками у османов.
Тревожными были и донесения лазутчиков. Они сообщали, что в окрестностях Варны замечены группы русских казаков, которых с каждым часом становится все больше и больше.
– Они все такие страшные, – дрожа от испуга, рассказывал почтенный кади, – у них мерзкие монгольские рожи, глаза узкие и дикие. Эти порождения Иблиса режут без жалости всех: и аскеров, и почтенных старцев, и детей, и женщин. Говорят, – тут у кади глаза закатились под лоб, и он едва не упал в обморок, – что эти казаки бросают грудных детей в котлы, варят их, а потом пожирают! Я сам не видел всего этого ужаса, но есть люди, которые наблюдали за пиршеством людоедов…
Менее впечатлительные лазутчики сообщали, что, действительно, вокруг города появились не только русская кавалерия, но и пехота с артиллерией. Это напугало командование гарнизона Варны гораздо сильней, чем рассказы про людоедов-казаков, похожих на ифритов из арабских сказок.
Однако к полудню в городе удалось навести некоторое подобие порядка. По улицам решительно зашагали патрули, разгоняя мародеров, крутившихся, словно мухи вокруг разлитого сиропа, возле разрушенных воинских складов и казарм. Кое-кого из них под горячую руку даже расстреляли. Командиры частей организовали горячее питание для уцелевших солдат, эвакуировали раненых, проверили наличие и исправность оружия.
Но тут на город обрушилась новая напасть: наблюдатели в порту доложили, что в море обнаружена эскадра кораблей, приближающаяся к Варне. Конечно, флаги на таком расстоянии разобрать было сложно, но силуэты по крайней мере двух из них были совершенно не похожи ни на турецкие суда, ни на корабли союзников. Стало ясно: к городу приближался враг, который рассчитывал захватить Варну комбинированным ударом с суши и с моря. Сделать же это им будет легко: гарнизон не был готов к длительному сопротивлению, да и большая его часть находилась в Силистрии, Рущуке и Кёстендже.
К тому же местное турецкое население снова ударилось в панику – кто-то распустил слух, что если Варна не откроет ворота и не сдастся на милость победителей, то русские сожгут город дотла и вырежут всех правоверных.
В штаб спешно примчалась делегация уважаемых людей Варны, которые слезно молили командование гарнизона не оказывать сопротивления русским и попытаться не доводить дело до штурма города.
– Ради Аллаха, если русские вам позволят, уходите с миром из Варны. Мы не желаем быть зарезанными в своих домах, наши жены готовы скорее принять смерть от рук своих мужей, чем быть обесчещенными. И мы не хотим, чтобы наших детей сожрали дикие голодные казаки.
Британский генерал и французский полковник – командиры частей, все еще расквартированных в Варне, – также готовы были покинуть город, если, конечно, русские позволят им это сделать.
А тем временем с флагманского корабля русской эскадры отчалила шлюпка под белым флагом. Подойдя к пирсу, из нее высадились парламентер и два сопровождавших его трубача. Срочно прибывшему в порт турецкому генералу был вручен ультиматум, подписанный командующим русской эскадрой адмиралом Корниловым. Тот предлагал союзному гарнизону свободный выход из города с личным оружием и знаменами. Все военное имущество, казна и артиллерия должны были остаться в Варне. Раненым и больным, находящимся на излечении в госпиталях, была обещана надлежащая медицинская помощь. На размышление командованию гарнизона города давалось три часа.
В штабе после недолгого совещания было решено согласиться с условиями ультиматума. На русский флагманский корабль был послан офицер с письмом, в котором союзное командование обещало покинуть город. Турецкие, британские и французские части стали готовиться к маршу. Под наблюдением прибывших с эскадры русских офицеров они освободили казармы и вручили победителям по описи все уцелевшее армейское имущество, денежные средства, хранившиеся в городском казначействе, и список больных и раненых, остающихся в Варне. А потом, с оркестром и знаменами, они вышли через ворота, ведущие в Адрианополь.
Высадившиеся в городе русские войска с песнями и музыкой встретили болгары и греки. Они угощали солдат и офицеров домашним вином и ракией. То тут, то там поднимался дымок и вкусно пахло жареным мясом. А потом на улицах появились и турки, которые увидели, что русские не только не грабят, не режут и не насилуют мусульман, но даже и не помышляют об этом.
Так, без единого выстрела, пала одна из сильнейших турецких крепостей на Черном море, на стенах которой гордо красовались мраморные доски с арабской вязью, хвастливо сообщавшие всем, что крепость эту не сможет взять ни один враг блистательного султана…
17 (5) ноября 1854 года.
Селение Сарай, Дунайские княжества.
Мехмед Садык-паша, он же Михал Чайковский, мириан-паша (командир) Славянского легиона армии Османской империи
Сарай оказался небольшой мусульманской деревушкой, вокруг которой находились греческие и болгарские деревни: Карапелит, Альбина, Мусул… В самом же Сарае практически все население состояло из переселенцев, прибывших в здешние места из Анатолии. Я для них своим не был – все-таки, когда я говорю по-турецки, они сразу определяют по моему выговору, что я «гяур», хотя я уже тринадцать лет как правоверный мусульманин. Впрочем, «правоверный» я лишь потому, что только таким образом смог получить доверие его величества султана Абдул-Меджида, который, при всем его увлечении Западом, все равно не считает христиан своими.
Вот так и в моем Славянском легионе, хотя большая часть казаков – христиане – потомки задунайцев и некрасовцев, но офицеры мои в основном мусульмане. Увы, нам пока так и не довелось сразиться с русской армией. Но, когда местные болгары восстали в Добрудже, именно мои казаки подавили мятеж, пролив немало крови. А когда русские разгромили союзников в Крыму, Омар-паша приказал нам занять позиции в Тульче, столице одноименного санджака, через которую ожидался главный удар русских войск по направлению на Кёстендже – главный порт в этой части Дунайских княжеств.
Но русские поступили намного умнее. Дунай они форсировали у Галаца, и теперь их армия начала продвигаться на юг вдоль восточного берега Дуная. А Легион и несколько других полков оказались в окружении. Вчера утром мне доставили приказ срочно продвигаться к городу Канаре[10], к северу от Кёстендже. Да, если русские ударят по столице, то Канара – практически идеальный рубеж для обороны. Вот только пехота из Тульчи прийти туда уже не успеет, а мои казаки – не пехота, и в обороне им – не место.
Более того, у меня возникло подозрение, что русские проигнорируют Кёстендже, набитую под завязку союзными войсками, и ударят по Варне, после чего спокойно перебросят свои войска по морю, – все-таки они захватили немалую часть союзного флота. А после этого падение Кёстендже – вопрос времени, точно так же, как и тот факт, что Тульча – такое у меня впечатление – продержится не более недели, даже если пехота там останется. И тогда вся Добруджа будет русской. А после нашей акции в этой провинции практически все местное население встретит их как освободителей.
Подумав, я отправил большую часть Легиона в Канару, а сам с пятеркой приближенных решил, переодевшись небогатым торговцем, посетить Сарай, лежащий по дороге из Галаца как в Кёстендже, так и в Варну. Коней мы оставили в близлежащем Рахмане у местного башкана[11] и у него же одолжили арбу, которую нагрузили арбузами из его же запасов. Дорога до Сарая заняла около часа, после чего к нам сразу же начали подходить русские, которыми кишело это село. Все арбузы у нас раскупили менее чем за полчаса.
Мы делали вид, что не знали русского языка, и, навострив уши, слушали разговоры солдат. Но все, что мы узнали, – это то, что они принадлежали к Азовскому полку и что с утра они продолжат свой марш по главной дороге на юг, что могло означать и Кёстендже, и Варну. А вот казаки, патрулировавшие окрестности, то и дело поглядывали на нас с подозрением. Подумав, я решил, что пора возвращаться в Рахман. Но тут мы увидели весьма необычного персонажа.
Это был человек, одетый в пятнистую форму и со странного вида ружьем на спине, но державшийся в седле немногим лучше мешка с бульбой. Его почти сразу остановил казачий разъезд, но один из казаков вдруг закричал:
– Вашбродь! Это ведь вы намедни стреляли по туркам! Мы думали, что вы еще в лазарете!
– Да нет, все нормально, – ответствовал пятнистый, хотя лицо его было бледным. – Сейчас еду в свою часть, но хотелось бы перекусить: дорога предстоит долгая.
– А вон там корчма, вашбродь, – улыбнулся старший из казаков и показал рукой на приземистое здание, из окон которого исходили ароматы жареной баранины.
Я сделал своим знак – они вдруг стали колдовать над одним из колес арбы, а я направился в то же заведение, что и «пятнистый». В здании оказалось два длинных стола. За одним из них, увы, сидели трое офицеров, за другим же примостился заинтересовавший меня субъект. Я подошел к нему, показал глазами на табуретку, словно спрашивая разрешения сесть с ним рядом. Он кивнул, и вдруг я увидел на его пальце серебряное кольцо с гербом Домбровских.
– Вы – Домбровский? – выпалил я по-польски, с опозданием подумав, что это, возможно, не самая лучшая идея.
Но тот лишь улыбнулся:
– Да, пане…
– Голембёвский, – назвал я первую попавшуюся фамилию. – А вы не родственник Максимилиану Домбровскому?
– Родственник, – сказал тот, причем на лице у него отразилось удивление.
– Значит, мы с вами родня. Мой дед и его бабушка – брат и сестра.
Тот пристально посмотрел на меня, и вдруг улыбнулся краешками губ, после чего тихо, но отчетливо произнес:
– Пане Михале, я слышал, что вы человек чести. Предлагаю вам, как родственнику, следующую сделку: я не выдам вас нашим, а вы не будете пытаться меня захватить – признайтесь, у вас, несомненно, были такие планы? А мы с вами поговорим – я же журналист. Единственное условие: вы не будете меня расспрашивать о том, что является тайной. В ответ я могу пообещать вам то же самое.
– Хорошо, пане…
– Миколае, если по-польски.
– Хорошо, пане Миколае, я согласен.
– Тогда я бы велел вашим людям возвращаться туда, откуда вы прибыли. Видите ли, на местных крестьян-торговцев они похожи примерно так же, как я на пани Валевску. И вам просто повезло, что никто еще не обратил на них внимание. Да, и скажите, чтобы они подогнали вам коня куда-нибудь за версту от Сарая – там же вроде есть рощицы? Вот там пусть вас и ждут. А версту вы всяко пройдете и пешком, не так ли? А я пока закажу что-нибудь поесть для нас с вами. Видите, офицеры собрались уходить, так что нам никто не помешает.
18 (6) ноября 1854 года, вскоре после полуночи.
Сарай, Дунайские княжества.
Штабс-капитан Домбровский Николай Максимович, снайпер
– Вашбродь, это вы штабс-капитан Домбровский? – спросил меня казак в тот момент, когда я спросонья расчесывал укусы клопов и пытался открыть дверь своей комнаты в корчме.
– Я, служивый.
– Вас их высокоблагородие полковник Криденер зовуть.
Интересно, подумал я, зачем я понадобился ни свет ни заря командиру 45-го Азовского полка? Да, я взял у него интервью, но, судя по его физиономии, вряд ли я был для него более чем щелкопером и шпаком, лишь по недоразумению надевшим офицерский мундир. Быстренько умывшись и одевшись при свете двух свечей, я отправился в шатер полковника.
Последний, хотя на лице его явно угадывалось, что и его разбудили посреди ночи, выглядел, в отличие от меня, практически безупречно. А рядом с ним, под охраной двоих солдат, на табуретке сидел человек в пестрой одежде.
– Господин полковник, штабс-капитан Домбровский по вашему приказанию прибыл, – бодро отрапортовал я.
Тот лишь усмехнулся:
– Николай Максимович, спасибо, что пришли. А принятым в русской армии формам обращения я прикажу вас научить после. Так вот, это сотник Славянского легиона Ахмед Али-бей, он же некрасовский казак Кузьма Нечаев. Говорит, что прибыл по приказанию Садык-паши для того, чтобы обсудить условия сдачи. И зачем-то попросил пригласить лично вас…
…Да, вчерашний день изобиловал многими интересными моментами. Но встреча с Михалом Чайковским была, наверное, самым главным из них. После того, как он отослал своих «крестьян» – ага, щазз, так я и поверил, что это люди с прямыми спинами и с кривыми по-кавалерийски ногами – местные крестьяне, – он вернулся и долго разглядывал меня, а потом сказал по-польски:
– Пане Миколае, мы здесь одни, так что можем перейти и на русский, если вам проще.
– Хорошо, – с облегчением ответил я. Все-таки по-польску я розмавям не бардзо добже[12].
– Пане Миколае, как мне кажется, я знаю всю родню кузена Максимилиана, но ни про какого Николая Домбровского, тем более штабс-капитана русской армии, я никогда не слышал. Есть парочка Миколаев Домбровских, но они пану Максимилиану слишком дальние родственники…
Я попытался ответить, но пан Михал продолжил:
– И еще. Вы одеты в ту самую таинственную пятнистую форме, про которую я успел услышать от тех, кто имел несчастье побывать в Крыму. Вы, случайно, не из той самой загадочной эскадры, которая из ниоткуда появилась на Балтике и спутала карты нашим друзьям из Франции и Англии, а также моему султану?
– Все может быть, пане Михале. – Я усмехнулся и посмотрел на неожиданно побледневшее лицо своего собеседника.
– О, Аллах, – воскликнул он. – Ходят слухи, что вы появились из другого мира; знать бы только, от Всевышнего, либо от шайтана…
– Помните про наш уговор? – спросил я. Мне надоело ходить вокруг да около. Тем более что Чайковский был готов поверить в то, что я ему скажу.
– Помню. И никому ничего не расскажу, – пробормотал он. – Скажите, кто вы, а то я уже не знаю, что и думать…
– Так вот, пане Михале, мы прибыли из этого же мира, но из будущего, – наконец произнес я. – Далекого будущего. И я – прямой потомок вашего кузена Максимилиана, а значит, и сестры вашего деда.
Тот стал бледным, как бумага, – у меня сложилось впечатление, что он готов хлопнуться в обморок. Человек, который отличался личной храбростью и не раз смотрел в лицо смерти, был напуган не на шутку. Он перекрестился по-католически, слева направо, потом, опомнившись, пробормотал что-то типа «Аузубиллах»[13].
Я усмехнулся:
– Пане Михале, в нашей истории вы в конце концов вернетесь в Россию, где перейдете в православие.
– Значит, русские захватят меня в плен и заставят сменить веру?
– Нет, вернетесь вы в Россию вполне добровольно и снова станете христианином по собственному желанию. Русские сдержат обещания, которые они вам дадут перед тем, как вы примете это решение.
– Расскажите! Расскажите мне, пане Миколае! – лицо Чайковского снова порозовело, и он прижал руки к груди, умоляя меня поделиться с ним информацией о его будущем.
– Расскажу. Но для начала вы мне тоже кое-что расскажете. Например, о том, почему вы перебрались в Турцию.
– Видите ли, когда французы забрали мой паспорт, то стало очевидно, что они могут выдать меня русским. Но главная причина не в этом: именно Турция находилась тогда на острие борьбы с Российской империей, которая отобрала у моей любимой и родной Польши ее свободу.
– У родной Польши? – я удивленно пожал плечами. – Однако родились вы в Киевской губернии, да и предки ваши со стороны матери были запорожскими казаками. А в Польшу вы попали во вполне взрослом возрасте, и то ненадолго. К тому же, насколько мне известно, вам не очень понравилось то, что поляки делали с евреями и русскими, сражаясь «за вашу и нашу свободу».
Чайковский с удивлением взглянул на меня.
– Откуда вы это знаете?
– Я читал ваши мемуары, пане Михале. Еще ненаписанные на данный момент.
– Скорее, еще неопубликованные, родственничек, – криво усмехнулся Чайковский. – Но вы правы: то, что французы лишили меня паспорта, и стало основной причиной того, что я покинул Париж. Воспоминания же о событиях тридцатого года – когда мои соратники вешали евреев и православных, всех, кого могли… Да, именно тогда я подумал, что хотел бы, чтобы Польша была свободной, но не очень хотел, чтобы именно эти люди захватили власть… Тем более что до тридцатого года у поляков было и без того более чем достаточно свободы. А те, с кем мне приходилось общаться в Париже… Знаете, была поэма некоего немца по имени Гейне под названием «Два рыцаря». Мне ее тайно прислали из Франции…
– Она весьма оскорбительна для поляков.
– Не для поляков, а, скорее, для «польского бомонда». И, что самое обидное для них, Гейне в точности описал их быт. Эх, сколько я знал таких, кто «храбро бился» аж до самого Парижа – как там написал Гейне? «Столь же сладко для отчизны уцелеть, сколь умереть!»
Как удивительно точно он описал их чванство, их высокомерие, их поведение и то, как они собирались вместе, чтобы напиться допьяна, всласть поругать московитов и помечтать о великой Польше «от можа до можа»… Знаете, мне все это изрядно надоело, и я решил попробовать сделать хоть что-нибудь. Ведь альтернатива Турции у меня была – Североамериканские Соединенные Штаты. Но оттуда польской свободе помочь было невозможно.
– Да вы и здесь ей уже ничем не поможете. В шестьдесят третьем году в Польше снова вспыхнет восстание, не менее кровавое, чем то, что было в тридцатом. После него Польского королевства не станет, оно превратится в Привислянские губернии Российской империи. Кстати, лично вы отрицательно отнесетесь к этому мятежу. Сами же вы будете усмирять то одно восстание, то другое… Ведь именно этим вы занимались в Добрудже?
– Да, мне довелось подавлять здешний мятеж, – вздохнул Чайковский. – Если бы вы знали, с каким удовольствием я повесил бы несколько десятков своих казаков, которые чинили зверства среди местного населения… Но, увы, Омер-паша мне это накрепко запретил. Зато местные болгары[14] и греки нас теперь ненавидят, и малороссийским переселенцам в этих местах стало очень скверно.
– Так вот, вам и в будущем предстоит только такая деятельность. Хотя сперва султан щедро наградит вас и назовет «глазом, ухом и правой рукой престола».
А потом, в шестьдесят седьмом году, в моей истории болгары поднимут восстание, и при его подавлении, по вашим же собственным воспоминаниям, турки станут вешать болгар так же охотно, как поляки в тридцатом году – евреев. От вас потребуют, чтобы ваш Славянский легион целиком перешел в ислам, а когда вы откажетесь отдать соответствующий приказ, то ваши же зятья начнут писать на вас доносы и в конце концов добьются вашей опалы. Только Россия протянет вам руку помощи, и вы переселитесь туда, где когда-то родились, перейдете в православие, будете неплохо жить, напишете мемуары. Но когда ваша молодая жена, привезенная вами из Турции, простите, пан Чайковский, наставит вам рога, то вы застрелитесь. И похоронят вас за церковной оградой. Могила же ваша с годами позабудется и зарастет бурьяном…
Чайковский с болью в глазах посмотрел на меня, но я продолжил:
– Кузен, я ничего не приукрашиваю. Но все это было в моей истории. Что будет в этой, после нашего появления, не знаю. Но боюсь, что Османская империя войну проиграет, а что за этим последует, не мне вам говорить.
– Да, боюсь, что русские заберут всю Добруджу.
Я посмотрел на него с сожалением – хоть мне и не были известны все планы нашего командования, я понимал, что только Добруджей дело не ограничится. Но вслух сказал:
– И что с вами будет, кузен, после этого? Если, конечно, вы выживете.
– Если мы останемся в Добрудже, то нас растерзает местное население. Если же уйдем на юг, в империю, полагаю, что в лучшем случае я получу шелковый шнурок[15]. А если в Россию… Боюсь, что меня там не простят. Сейчас не простят. Вот моих людей, тех, может быть, да. Смог же император Николай в 1829 году помиловать казаков-некрасовцев. Правда, не все они поспешили воспользоваться его прощением.
– Если хотите, то я могу замолвить за вас слово перед командованием…
– Да вы всего лишь штабс-капитан… – Чайковский грустно усмехнулся.
– Я журналист и знаком со многими высокопоставленными людьми, – ответил я. – В числе которых и его императорское величество. За вас лично готов ходатайствовать особо – все-таки родная кровь – не водица.
– Ах, зачем всё это? – Чайковский обреченно махнул рукой. – Конечно, спасибо вам за всё, но вам не стоит просить царя насчет моей особы, вы только испортите себе карьеру. Но за моих людей попросите. Эх, пане Миколае… Меня радует только одно: в далеком будущем в нашем роду появятся такие достойные люди, как вы. Ведь вы потомок не только Домбровских, но и Чайковских. Ладно, мне, я думаю, пора. Проводите меня до окраины села?
– С удовольствием! – кряхтя, я поднялся с лавки, потирая так некстати разболевшийся бок.
За последующие полчаса нашего общения я задал ему еще несколько вопросов про Добруджу и про Париж. А он расспросил меня про историю моей семьи. Его очень обрадовала новость о том, что Витольд, погибший в моей истории, выжил в этой. Чайковский снял с руки два перстня и сказал:
– Пане Миколае, передайте, пожалуйста, вот этот перстень Витольду. А этот – мой родовой перстень – я хочу подарить вам, на добрую славу. И… молитесь за меня, великого грешника.
Я прошел с ним мимо казачьего патруля, обнял и расцеловался с ним, а затем отправился в свои «нумера». Подходя к корчме, я услышал вдалеке одиночный выстрел. Вскочив на свою кобылу, я в сопровождении десятка казаков поскакал к тому месту, где стреляли. В небольшой рощице мы нашли труп пана Михала с ужасной раной головы. Пистолет он зажал в руке, а положение трупа и следы сгоревшего пороха вокруг его раны однозначно указывали на то, что произошло самоубийство.