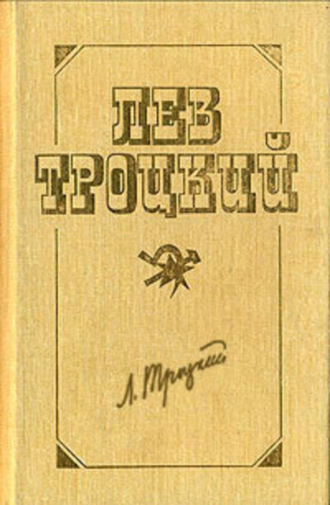 полная версия
полная версияПроблемы культуры. Культура переходного периода
Сложнее и хуже обстоит дело с науками общественными и так называемыми «гуманитарными». И здесь, конечно, в основе действовало стремление познать то, что есть. Благодаря этому мы имели, к слову сказать, блестящую школу классиков буржуазной экономии. Но классовый интерес, который в общественных науках сказывается гораздо непосредственнее и повелительнее, чем в естествознании, скоро приостановил развитие экономической мысли буржуазного общества. В этой области мы, коммунисты, вооружены, однако, лучше, чем в какой бы то ни было другой. Пробужденные классовой борьбой пролетариата социалистические теоретики, опираясь на буржуазную науку и критикуя ее, создали, в учении Маркса и Энгельса, могущественный метод исторического материализма и ее непревзойденное применение в «Капитале». Это не значит, конечно, что мы застрахованы от влияния буржуазных идей в области экономики и социологии вообще. Нет, вульгарнейшие профессорско-социалистические, мещанско-народнические тенденции на каждом шагу врываются в наш обиход из старых «сокровищниц» познания, ища для себя питательной среды в неоформленных и противоречивых отношениях переходной эпохи. Но в этой области у нас есть незаменимые критерии марксизма, проверенные и обогащенные в работах Ленина. И мы будем давать тем более победоносный отпор вульгарным экономистам и социологам, чем меньше будем замыкаться в опыте сегодняшнего дня, чем шире будем охватывать мировое развитие в целом, выделяя его основные тенденции из-под конъюнктурных изменений.
В вопросах права, морали, идеологии вообще, положение буржуазной науки еще более плачевно, если можно, чем в области экономии. Найти в этих областях жемчужное зерно действительного познания можно, лишь перерыв десятки навозных профессорских куч.
Диалектика и материализм образуют основные элементы марксова познания мира. Но это вовсе не значит, что их можно, в качестве всегда готовой отмычки, применять в любой области познания. Диалектику нельзя навязать фактам, надо ее извлечь из фактов, из их природы и их развития. Только кропотливая работа над необозримым материалом дала Марксу возможность воздвигнуть диалектическую систему экономии на понятии ценности как овеществленном труде. Так же построены марксовы исторические работы, даже и газетные статьи. Применять диалектический материализм к новым областям познания можно только овладевая ими изнутри. Очищение буржуазной науки предполагает овладение буржуазной наукой. Ни огульной критикой, ни голой командой ничего не возьмешь. Усвоение и применение идет тут рука об руку с критической переработкой. Метод у нас есть, а работы хватит на поколения.
Марксистская критика науки должна быть не только бдительной, но и осторожной, иначе она может выродиться в прямое сикофантство, в фамусовщину. Взять хотя бы психологию. Рефлексология Павлова целиком идет по путям диалектического материализма. Она окончательно разрушает стену между физиологией и психологией. Простейший рефлекс физиологичен, а система рефлексов дает «сознание». Накопление физиологического количества дает новое, «психологическое» качество. Метод павловской школы экспериментален и кропотлив. Обобщения завоевываются шаг за шагом: от слюны собаки к поэзии, т.-е. к ее психической механике (а не к общественному содержанию), при чем путей к поэзии еще не видать.
По-иному подходит к делу школа венского психоаналитика Фрейда. Она заранее исходит из того, что движущей силой сложнейших и утонченнейших психических процессов является физиологическая потребность. В этом общем смысле она материалистична, – если оставить в стороне вопрос о том, не отводит ли она слишком много места половому моменту за счет других, ибо это уже спор в границах материализма. Но психоаналитик подходит к проблеме сознания не экспериментально, от низших явлений к высшим, от простого рефлекса к сложному, а стремится взять все эти промежуточные ступени одним скачком, сверху вниз, от религиозного мифа, лирического стихотворения или сновидения – сразу к физиологической основе психики.
Идеалисты учат, что психика самостоятельна, что «душа» есть колодезь без дна. И Павлов и Фрейд считают, что дном «души» является физиология. Но Павлов, как водолаз, спускается на дно и кропотливо исследует колодезь снизу вверх. А Фрейд стоит над колодцем и проницательным взглядом старается сквозь толщу вечно колеблющейся замутненной воды разглядеть или разгадать очертания дна. Метод Павлова – эксперимент. Метод Фрейда – догадка, иногда фантастическая. Попытка объявить психоанализ «несовместимым» с марксизмом и попросту повернуться к фрейдизму спиной слишком проста или, вернее, простовата. Но мы ни в каком случае не обязаны и усыновлять фрейдизм. Это рабочая гипотеза, которая может дать и несомненно дает выводы и догадки, идущие по линии материалистической психологии. Экспериментальный путь принесет в свое время проверку. Но мы не имеем ни основания, ни права налагать запрет на другой путь, хотя бы и менее надежный, но пытающийся предвосхитить выводы, к которым экспериментальный путь ведет лишь крайне медленно.[163]
На этих примерах я хотел хоть отчасти показать и многообразие научного наследия и сложность тех путей, при помощи которых пролетариат может вступить во владение им. Если в хозяйственном строительстве дело не решается приказом и приходится «учиться торговать», то в науке одно лишь голое командование, кроме вреда и сраму, ничего принести не может. Здесь надо «учиться учиться».
Искусство есть одна из форм ориентировки человека в мире; в этом смысле наследство искусства не отличается от наследства науки и техники – и не менее их противоречиво. Однако в отличие от науки искусство есть форма познания мира не как системы законов, а как группировки образов и в то же время способ внушения известных чувств и настроений. Искусство прошлых веков сделало человека более сложным и гибким, подняло его психику на более высокую ступень, всесторонне обогатило ее. Обогащение это есть неоценимое завоевание культуры. Овладение старым искусством является, поэтому, необходимой предпосылкой не только для создания нового искусства, но и для построения нового общества, ибо для коммунизма нужны люди с высокой психикой. Способно ли, однако, старое искусство обогащать нас художественным познанием мира? Способно. Именно поэтому же оно способно давать пищу нашим чувствам и воспитывать их. Если б мы огульно отреклись от старого искусства, мы сразу стали бы духовно беднее.
У нас наблюдается теперь кое-где тенденция выдвигать ту мысль, что искусство имеет своею целью лишь внушение известных настроений, а вовсе не познание действительности. Отсюда вывод: какими же такими чувствами может нас заражать дворянское или буржуазное искусство? Это в корне неверно. Значение искусства, как средства познания – в том числе и для народных масс, и для них особенно – никак не меньше «чувственного» значения его. И былина, и сказка, и песня, и пословица, и частушка дают образное познание, освещают прошлое, обобщают опыт, расширяют кругозор, и только в связи с этим и благодаря этому способны «настраивать». Это относится ко всей вообще литературе – не только к эпосу, но и к лирике. Это относится и к живописи и к скульптуре. Исключение составляет, в известном смысле, только музыка, действие которой могущественно, но односторонне. Конечно, и она опирается на своеобразное познание природы, ее звуков и ритмов. Но здесь познание настолько скрыто под спудом, результаты внушений природы настолько преломлены через нервы человека, что музыка действует как самодовлеющее «откровение». Попытки приблизить все виды искусства к музыке, как к искусству «заражения», делались не раз и всегда означали принижение в искусстве роли разума в интересах бесформенной чувственности и в этом смысле были и остаются реакционными… Хуже всего, конечно, такие произведения «искусства», которые не дают ни образного познания, ни художественного «заражения», зато выдвигают непомерные претензии. У нас таких произведений печатается немало, и, к сожалению, не в ученических тетрадках студий, а во многих тысячах экземпляров…
Культура есть явление общественное. Именно поэтому язык, как орган общения людей, является важнейшим ее орудием. Культура самого языка – важнейшее условие роста всех областей культуры, особенно науки и искусства. Как техника не удовлетворяется старыми измерительными приборами, а создает новые: микрометры, вольтаметры и пр., добиваясь и достигая все высшей точности, так и в деле языка – умения выбирать надлежащие слова и надлежаще сочетать их – необходима постоянная систематическая кропотливая работа над достижением высшей точности, ясности, яркости. Основой этой работы должна быть борьба с неграмотностью, полуграмотностью и малограмотностью. Следующая ступень той же работы – овладение классической русской литературой.
Да, культура была главным орудием классового гнета. Но она же, и только она, может стать орудием социалистического освобождения.
III. Наши культурные противоречия
Город и деревня
Особое положение наше заключается в том, что мы – на стыке капиталистического Запада и колониально-крестьянского Востока – впервые совершили социалистическую революцию. Режим пролетарской диктатуры впервые установился в стране с громадным наследием отсталости и варварства, так что у нас между каким-нибудь сибирским кочевником и московским или ленинградским пролетарием пролегают века истории. Наши общественные формы являются переходными к социализму, следовательно, неизмеримо более высокими, чем формы капиталистические. В этом смысле мы, по праву, считаем себя самой передовой страной в мире. Но техника, которая лежит в основе материальной и всякой иной культуры, у нас чрезвычайно отсталая по сравнению с передовыми капиталистическими странами. В этом основное противоречие нашей нынешней действительности. Вытекающая отсюда историческая задача заключается в том, чтобы технику поднять до общественной формы. Если бы мы не сумели это сделать, то общественный строй наш упал бы неизбежно до уровня нашей технической отсталости. Да, чтобы понять все значение для нас технического прогресса, надо прямо сказать себе: если бы советскую форму нашего строя мы не сумели заполнить надлежащей производственной техникой, мы закрыли бы для себя возможность перехода к социализму и вернулись бы назад, к капитализму – да какому? – полукабальному, полуколониальному. Борьба за технику есть для нас борьба за социализм, с которым неразрывно связана вся будущность нашей культуры.
Вот свежий очень выразительный пример наших культурных противоречий. На днях в газетах появилась заметка о том, что наша Публичная Библиотека в Ленинграде заняла первое место по количеству томов: в ней сейчас 4.250.000 книг! Первое наше чувство – законное чувство советской гордости: наша библиотека – первая в мире! Чему мы обязаны этим достижением? Тому, что экспроприировали частные библиотеки. Путем национализации частной собственности мы создали богатейшее культурное учреждение, доступное всем. На этом простом факте бесспорно обнаруживаются великие преимущества советского строя. А в то же время наша культурная отсталость выражается в том, что у нас процент неграмотных больше, чем в какой-нибудь европейской стране. Библиотека – первая в мире, а читает книги пока еще меньшинство населения. И так почти во всем. Национализованная промышленность с гигантскими и отнюдь не фантастическими проектами Днепростроя, Волго-Донского канала и пр., – а крестьяне молотят цепами и катками. Брачное законодательство проникнуто социалистическим духом, – а в семейной жизни побои занимают еще немалое место. Эти и подобные противоречия вытекают из всего строения нашей культуры – на стыке между Западом и Востоком.
Основой нашей отсталости является чудовищное преобладание деревни над городом, сельского хозяйства над промышленностью; при чем в деревне преобладают опять-таки наиболее отсталые орудия и способы производства. Когда мы говорим об историческом крепостничестве, мы прежде всего имеем в виду сословные отношения, закабаленность крестьянина помещику и царскому чиновнику. Но, товарищи, крепостничество имеет под собой более глубокую базу: закрепощение человека земле, полную зависимость крестьянина от стихий. Читали ли вы Глеба Успенского? Боюсь, что молодое поколение его не читает. Надо бы его переиздать, по крайней мере лучшие его вещи, а у него есть превосходные. Успенский – народник. Его политическая программа насквозь утопична. Но Успенский – бытописатель деревни – не только превосходный художник, но и замечательный реалист. Он сумел понять быт крестьянина и его психику, как производные явления, вырастающие на хозяйственной базе и ею целиком определяемые. Хозяйственную базу деревни он сумел понять, как кабальную зависимость крестьянина в трудовом процессе от земли, вообще от сил природы. Надо непременно прочитать хотя бы только его «Власть земли». Художественная интуиция заменяет Успенскому марксистский метод и по результатам может во многих отношениях соперничать с ним. Поэтому-то Успенский-художник находился постоянно в смертельной борьбе с Успенским-народником. У художника мы еще и сейчас должны учиться, если хотим понять могучие крепостнические пережитки в крестьянском быту, особенно в семейном, перехлестывающие нередко и в городской быт: достаточно вслушаться хотя бы в иные ноты развертывающейся ныне дискуссии по вопросам брачного законодательства!
Капитализм во всех частях света довел до крайнего напряжения противоречие между промышленностью и сельским хозяйством, городом и деревней. У нас, в силу запоздалости нашего исторического развития, это противоречие имеет совершенно чудовищный характер. Как никак, наша промышленность уже тянулась по европейским и американским образцам, в то время как наша деревня уходила в глубь XVII и более отдаленных веков. Капитализм даже в Америке явно неспособен поднять сельское хозяйство на уровень промышленности. Эта задача целиком переходит к социализму. В наших условиях, с колоссальным преобладанием деревни над городом, индустриализация сельского хозяйства составляет важнейшую часть социалистического строительства.
Под индустриализацией сельского хозяйства мы понимаем два процесса, которые только в сочетании своем могут, в конце концов, окончательно стереть грань между городом и деревней. На этом важнейшем для нас вопросе остановимся несколько дольше.
Индустриализация земледелия состоит, с одной стороны, в отделении от деревенского домашнего хозяйства целого ряда отраслей по предварительной переработке промышленного и пищевого сырья. Ведь вся вообще индустрия вышла из деревни, через ремесло, через кустарничество, путем отпочкования от замкнутой системы домашнего хозяйства отдельных отраслей, путем специализации, создания надлежащей выучки, техники, а затем и машинного производства. Наша советская индустриализация должна будет, в значительной мере, пойти по этому именно пути, т.-е. по пути обобществления целого ряда производственных процессов, стоящих между сельским хозяйством в собственном смысле слова и индустрией. Пример Соединенных Штатов показывает, что здесь перед нами открываются неизмеримые возможности.
Но сказанным вопрос не исчерпывается. Преодоление противоречий между сельским хозяйством и промышленностью предполагает индустриализацию самого полеводства, скотоводства, садоводства и пр. Это значит, что и эти отрасли производственной деятельности должны быть поставлены на основы научной технологии: широкое применение машин в правильном их сочетании, тракторизация и электрификация, удобрения, правильный плодосмен, лабораторно-опытная проверка методов и результатов, правильная организация всего производственного процесса с наиболее целесообразным использованием рабочей силы и пр. Разумеется, и высоко организованное полеводство будет иметь свои отличия от машиностроения. Но ведь и внутри самой промышленности отдельные ее отрасли глубоко отличаются друг от друга. Если ныне мы имеем право противопоставлять сельское хозяйство промышленности в целом, так это потому, что сельское хозяйство ведется раздробленно, примитивными способами, при рабской зависимости производителя от условий природы и в архи-некультурных условиях существования производителя-крестьянина. Недостаточно обобществить, т.-е. перевести на фабричные рельсы, отдельные отрасли нынешнего сельского хозяйства, как маслоделие, сыроварение, крахмально-паточное производство и пр. Необходимо обобществить само сельское хозяйство, т.-е. вырвать его из его сегодняшней раздробленности и на место нынешнего жалкого ковыряния земли поставить научно-организованные пшеничные и ржаные «фабрики», коровьи и овечьи «заводы» и пр. Что это возможно, показывает частично уже имеющийся капиталистический опыт, в частности, сельскохозяйственный опыт Дании, где даже куры подчинились плану и стандарту, несут, по предписанию, яйца в огромном количестве, притом одинакового размера и одинакового цвета.
Индустриализация сельского хозяйства означает устранение нынешнего коренного противоречия между деревней и городом, а следовательно, между крестьянином и рабочим: по роли в хозяйстве страны, по условиям жизни, по культурному уровню они должны сблизиться в такой мере, чтобы самая грань между ними исчезла. Такое общество, где механизированное полеводство составит равноправную часть планового хозяйства, где город вберет в себя преимущества деревни (простор, зелень), а деревня обогатится преимуществами города (мощеные дороги, электрическое освещение, водопровод, канализация), т.-е. где исчезнет самое противопоставление города и деревни, где крестьянин и рабочий превратятся в равноценных и равноправных участников единого производственного процесса, – такое общество и будет подлинным социалистическим обществом.
Путь к этому долгий и трудный. Важнейшими вехами на этом пути являются мощные электро-силовые станции. Они понесут в деревню свет и преобразующую силу: против власти земли – власть электричества!
Недавно мы открывали Шатурскую станцию, одно из лучших наших сооружений, воздвигнутое на торфяном болоте. От Москвы до Шатуры сто с лишним километров. Казалось бы – рукой подать. А между тем, какая разница условий! Москва – столица Коммунистического Интернационала. А отъедешь несколько десятков километров – глушь, снег да ель, замерзшие болота да звери. Черные, бревенчатые деревеньки, дремлющие под снегом. Из окна вагона виден иной раз волчий след. Там, где ныне стоит Шатурская станция, несколько лет назад, когда приступали к стройке, водились лоси. Сейчас расстояние между Москвой и Шатурой покрыто изящной конструкции металлическими мачтами, поддерживающими провода для тока в 115 тысяч вольт. И под этими мачтами лисы и волчицы будут этой весной выводить своих щенят. Такова и вся наша культура – из крайних противоречий, из высших достижений техники и обобщающей мысли, с одной стороны, и из таежной первобытности – с другой.
Шатура живет на торфу, как на подножном корму. Поистине, все чудеса, созданные ребяческим воображением религии и даже творческой фантазией поэзии, бледнеют перед этим простым фактом: машины, занимающие ничтожное пространство, жрут вековое болото, превращают его в незримую энергию и возвращают ее по легким проводам той самой промышленности, которая создала и установила эти машины.
Шатура – красавица. Ее создавали преданные своему делу и одаренные строители. Это красота не накладная, не сусальная, а вырастающая из внутренних свойств и запросов самой техники. Высшим и единственным критерием техники является целесообразность. Проверка целесообразности дается экономностью. А это предполагает наиболее полное соответствие частей и целого, средств и цели. Хозяйственно-технический критерий полностью совпадает с эстетическим. Можно сказать – и это не будет парадоксом: Шатура – красавица потому, что киловатт-час ее энергии дешевле киловатт-часа других станций, поставленных в однородные условия.
Шатура стоит на болоте. Много у нас болот в Советском Союзе, гораздо больше, чем станций. Много у нас и других видов топлива, ждущих своего превращения в двигательную силу. На юге протекает по богатейшему промышленному району Днепр, расходуя могучую силу своего напора впустую, играючи по многовековым порогам, и ждет, когда мы обуздаем его течение плотиной и заставим освещать, двигать, обогащать города, заводы и пашни. Заставим!
В Соединенных Штатах Северной Америки на жителя приходится в год 500 киловатт-часов энергии, а у нас – всего лишь 20 киловатт-часов, т.-е. в 25 раз меньше. Механической двигательной силы вообще у нас в 50 раз меньше на человека, чем в Соединенных Штатах. Советская система, подкованная американской техникой, это и будет социализм. Наш общественный строй даст американской технике иное, несравненно более целесообразное применение. Но и американская техника преобразует наш строй, освободит его от наследия отсталости, первобытности, варварства. Из сочетания советского строя и американской техники родятся новая техника и новая культура – техника и культура для всех, без сынков и пасынков.
«Конвейерный» принцип социалистического хозяйства
Принцип социалистического хозяйства – гармоничность, т.-е. непрерывность, основанная на внутренней согласованности. Технически этот принцип находит свое высшее выражение в конвейере. Что такое конвейер? Бесконечная движущаяся лента, которая подает рабочему или уносит от него все, что требуется ходом работы. Сейчас уже общеизвестно, как Форд пользуется комбинацией конвейеров, как средством внутреннего транспорта: передачи и подачи. Но конвейер нечто большее: он представляет собой метод регулирования самого производственного процесса, поскольку рабочий вынужден соразмерять свои движения с движением бесконечной ленты. Капитализм пользуется этим для более высокой и совершенной эксплуатации рабочего. Но такое пользование связано с капитализмом, а не с самим конвейером. В какую сторону идет, в самом деле, развитие методов регулирования труда: в сторону сдельной платы или в сторону конвейера? Все говорит за то, что в сторону конвейера. Сдельная плата, как и всякий вид индивидуального контроля над работой, характерна для капитализма первых эпох развития. На этом пути обеспечивается полная физиологическая нагрузка отдельного рабочего, но не обеспечивается согласованность усилий разных рабочих. Обе эти задачи разрешает автоматически конвейер. Социалистическая организация хозяйства должна стремиться к тому, чтобы снижать физиологическую нагрузку отдельного рабочего, в соответствии с ростом технического могущества, сохраняя в то же время согласованность усилий разных рабочих. Таково именно и будет значение социалистического конвейера, в отличие от капиталистического. Говоря конкретнее, все дело здесь в регулировке движения ленты при данном числе рабочих часов, или, наоборот, в регулировке рабочего времени при данной скорости ленты.
При капиталистической системе конвейер осуществим в рамках отдельного предприятия, как метод внутреннего транспорта. Но принцип конвейера сам по себе гораздо шире. Каждое отдельное предприятие получает извне сырье, топливо, вспомогательные материалы, дополнительную рабочую силу. Отношения между отдельными предприятиями, хотя бы и гигантскими, регулируются законами рынка, правда, во многих случаях ограничиваемыми путем всякого рода длительных соглашений. Но каждый завод в отдельности, а еще более общество в целом заинтересованы в том, чтобы сырье доставлялось вовремя, не залеживаясь на складах, но и не создавая перебоев в производстве, т.-е., другими словами, чтобы оно подавалось по принципу конвейера, в полном соответствии с ритмом производства. При этом нет необходимости представлять себе конвейер непременно в виде бесконечной движущейся ленты. Формы его могут быть бесконечно разнообразны. Железная дорога, если она работает по плану, т.-е. без встречных перевозок, без сезонного нагромождения грузов, словом, без элементов капиталистической анархии, – а при социализме она будет работать именно так, – явится могущественным конвейером, обеспечивающим своевременное обслуживание заводов сырьем, топливом, материалами и людьми. То же самое относится к пароходам, грузовикам и т. д. Все виды путей сообщения станут элементами внутри-производственного транспорта, с точки зрения планового хозяйства, как целого. Нефтепровод представляет собою вид конвейера для жидких тел. Чем шире сеть нефтепроводов, тем меньше нужно запасных резервуаров, тем меньшая часть нефти превращается в мертвый капитал.
Конвейерная система вовсе не предполагает скученности предприятий. Наоборот, современная техника делает возможным их рассеяние, разумеется, не хаотическое и случайное, а со строгим учетом выгоднейшего места (штандорт) для каждого отдельного завода. Возможность широкого рассеяния промышленных предприятий, без чего нельзя растворить город в деревне, а деревню в городе, обеспечивается в огромной степени электрической энергией, как двигательной силой. Металлический провод представляет собою наиболее совершенный энергетический конвейер, дающий возможность дробить двигательную силу на мельчайшие частицы, пускать ее в дело и выключать простым поворотом кнопки. Именно этими своими свойствами энергетический «конвейер» наиболее враждебно сталкивается с перегородками частной собственности. Электричество в его нынешнем развитии является наиболее «социалистической» частью техники. И немудрено: это наиболее передовая ее часть.











