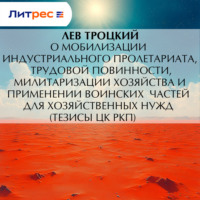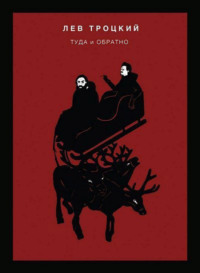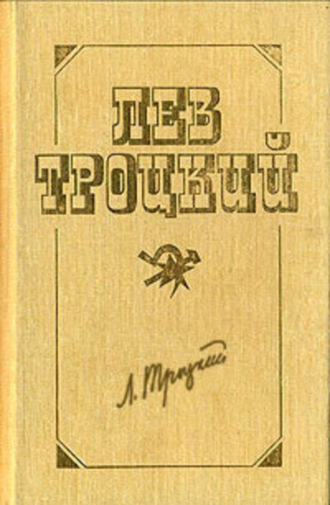 полная версия
полная версияСоветская республика и капиталистический мир. Часть I. Первоначальный период организации сил
Мы должны были сделать последнюю попытку, и хотя тов. Ленин был против этого, но он был против этого не с такой энергией, как сейчас. Однако те товарищи, которые обвиняли нас позже за брест-литовскую декларацию, были тогда с нами.[147] С этим необходимо считаться. Если бы меня заставили повторить переговоры с немцами, я 10 февраля повторил бы то же, что я сделал.[148] Я считал бы абсолютно недопустимым подписать в тот момент мирный договор, хотя для меня было ясно, что каждый день затягивания ухудшает условия мира. Почему? Потому, что все наши предшествовавшие переговоры с немцами и наша агитация имели революционизирующий смысл лишь постольку, поскольку их принимали за чистую монету. Я делал сообщение на фракции III Всероссийского Съезда Советов[149] о том, как бывший австро-венгерский министр Грац говорил, что немцам только нужен повод для того, чтобы поставить нам ультиматум. Им казалось, что мы напрашиваемся на ультиматум. Наша позиция во время Брест-Литовских переговоров изображалась нашими врагами и темными полусознательными друзьями, как игра с заранее предопределенным решением, игра на то, что мы идем к сепаратному миру, что мы заранее обязываемся подписать все, что мы разыгрываем лишь революционную комедию. При таком положении, нам, с одной стороны, грозила – в случае неподписания – потеря Ревеля и других местностей, с другой стороны, нам грозила потеря симпатий со стороны французского и английского пролетариата или значительной части его, если мы подпишем этот мир, не поставивши на испытание боеспособность германского пролетариата. В данном случае мы возложили ответственность на германский пролетариат, на его партию. Но эта партия оказалась абсолютно пассивной и не только не сделала попыток сопротивления (голос: «официальная, – а другая партия?»), но и систематически оправдывала это разбойническое нападение на Россию со стороны германского милитаризма. Я был одним из тех, которые думали, что германцы наступать не будут. В то же время я говорил, что если они будут наступать, то у нас всегда будет время подписать этот мир, хотя бы и в худших условиях. С течением времени – говорил я – все убедятся, что другого выхода у нас нет… (Шум.)
Мы сейчас еще не знаем всех тех фактов, которые заставили или побудили Германию наступать. Тов. Радек говорит, что имеются немецкие газеты, в которых сейчас указывается, что спустя 4 дня после нашего отъезда германская печать говорила, что наступления не будет. Какие тут факторы вмешались, не было ли тут закулисной игры с нашими союзниками, или, быть может, просто победило наиболее крайнее милитаристское крыло в самой Германии, – это для нас в настоящее время почти безразлично. Разумеется, мы сделали рискованный шаг. Это был риск не персональный, не кружковый. Здесь было поставлено на карту очень много: поддержит ли нас европейский пролетариат или не поддержит? Во втором случае мы будем раздавлены. Этот риск вызывался сущностью обстоятельств. Мы разно оценивали в данный момент остроту этого риска. Товарищ Ленин считает, что сегодня необходимо подписать мир, после того как немцы взяли Ревель и др. города; другое крыло, к которому я принадлежу, считает, что сейчас единственная возможность для нас, поскольку это зависит от нашей воли, – воздействовать революционизирующим образом на германский пролетариат. Благодаря этому не разрывается преемственность той агитации, которую мы вели, не создается в ней исторического перерыва.
Сейчас необходимо поставить европейский пролетариат, и германский в первую очередь, перед той политической драмой, которая не нами создана, а вытекает из существа международного положения, и возложить на германскую партию всю ответственность за то, что она нас не поддерживает. Мы отступаем и обороняемся, поскольку это в наших силах. Мы выполним ту перспективу, которую предсказывает тов. Ленин: мы отступим к Орлу, эвакуируем Петроград, Москву. Я должен сказать, что тов. Ленин говорил о том, что немцы хотят подписать мир в Петрограде, – несколько дней тому назад мы вместе с ним думали так. Однако мне помнится, будто Ленин в частном разговоре, имеющем большое значение, выразил сомнение в возможности осуществления этого плана немцев, очевидно, полагая, что факт взятия Петрограда подействовал бы слишком революционизирующим образом на германских рабочих. Это возможно. Взятие Петрограда – угрожающий факт, для нас это – страшный удар, но и для немцев это, разумеется, тоже рискованная тактика. Все эти возможности сопряжены с риском, но вся наша тактика строится именно на этом риске: у нас не может быть какой бы то ни было уверенности. Приходится решать при многих неизвестных и при той и при другой политике, и все зависит от скорости пробуждения и развития европейской революции. Разумеется, она разовьется и в том случае, если мы ратифицируем этот мир… (Шум.) Однако аргументы, которыми мотивируется необходимость мира, дезорганизуют работу не только по созданию армии, но и непосредственную работу по мобилизации рабочих масс. Между прочим, в Пскове и в других местах говорили мобилизованным рабочим, что их послали на убой, что из этого ничего не выйдет… Так воевать, разумеется, нельзя. Раз мы вынуждены обороняться, мы должны обеспечить себе тыл, а мы этого не делаем. Я уже не говорю о том, что все наше внимание обращено на немцев, и что мы открываем дорогу Японии с Владивостока. Там тоже имеется на многие миллионы рублей всевозможных богатств, сырья, которые попадут в руки японцев после высадки десанта. Уже теперь ходят слухи, что японская армия состоит из многих сотен тысяч солдат, что японское правительство выжидает лишь благовидного предлога, чтобы в удобной форме предложить нам удалиться с Дальнего Востока.[150] Это необходимо учесть. Я не хочу сказать, что, ратифицируя или не ратифицируя мир, мы получим сразу спасительное средство. Но для меня ясно одно: выступая сейчас от имени нашей партии с призывом к революционной войне или к обороне, мы должны были бы прежде всего обладать полным единодушием в наших рядах. Если мы будем расколоты, если в нашей организации, в части ее, будет существовать убеждение, что, призывая рабочих к обороне, мы отдаем на истребление цвет пролетариата, наносим жестокий удар социалистической революции, – при таких условиях революционная оборона становится абсолютно невозможной для данного периода.
Положение наше очень серьезное: часть партии не признавала решения сторонников подписания мира, – я говорю это не в виде упрека: сторонники революционной войны считали, что война, это – единственное решение и единственное спасение, они обязаны были, нарушая формальные партийные соображения, поставить вопрос ребром. Мы стояли перед тем, что в данных условиях откалывалась значительная часть нашей партии, и этим значительно ослаблялась Советская власть. При слабости страны, при пассивности крестьян, при несомненно мрачном настроении пролетариата еще угрожал раскол партии. Ввиду сложившегося соотношения сил в ЦК., от моего голосования зависело очень многое; зависело решение этого вопроса, потому что некоторые товарищи разделяли мою позицию. Я воздержался и этим сказал, что на себя ответственность за будущий раскол в партии взять не могу. Я считал бы более целесообразным отступать, чем подписывать мир, создавая фиктивную передышку, но я не мог взять на себя ответственность за руководство партией в таких условиях. Я считаю, что при нынешнем положении страны психологически и политически раскол невозможен. Тов. Радек был совершенно прав, когда говорил, что комиссар по иностранным делам не имеет права воздерживаться по вопросу о войне и мире. Поэтому я тогда же сложил с себя звание комиссара по иностранным делам, в том же заседании ЦК нашей партии.[151]
Итак, товарищи, мир подписан, он подлежит ратификации. Я не буду вам предлагать его не ратифицировать. Я с большим уважением отношусь к той политике, которая нашла свое выражение в подписании мира, в его ратификации, в той или иной передышке, даже хотя бы неопределенного исторического размера. Тут совершенно правильно указывалось, особенно тов. Лениным, что войну нужно вести как следует. Нужно иметь для нее не только ножи у псковских крестьян, а необходимо иметь пушки, снаряды, винтовки и проч. Если их нам даст Америка, которой сегодня по тем или иным соображениям выгодно продать винтовки и пушки, так мы возьмем их для своих целей, не пугаясь того, что это исходит от империалистов. Так мы вместе с тов. Лениным смотрели на дело и рассчитывали, что Америка даст военное снаряжение, исходя, конечно, из своих соображений. Очевидно, что мы имели тогда в виду сопротивление, возможное при данной исторической ситуации, а не такое сопротивление, когда создадим мощные железные дороги, сильную армию и т. д. Таким образом мы имели в виду отпор теми силами, какие у нас имеются и которые нужно привести в порядок. Тов. Ленин говорит о возможности эвакуации Петрограда. Но ведь это дело исчисляется днями и неделями, а создание железных дорог исчисляется долгими месяцами и годами.
Эти две перспективы возможны при условии затяжного характера революционной войны. Они могли довести партию до раскола. Эта опасность не исчезает и не уменьшается, если развитие европейской революции будет совершаться слишком медленно, если мы во имя передышки подпишем мир, благодаря которому мы выдадим Украину. Мы не поддерживаем части нашей революционной армии в прямой ее борьбе, а, между тем, там борьба, по последним сообщениям, ведется, по-видимому, с большим напряжением и с некоторым успехом. Мы не воюем, а в это время часть нашей Советской Федерации ведет борьбу. Завтра может возникнуть перед Петроградом или Москвою вопрос о поддержке украинского пролетариата, но что же они смогут сделать? Послезавтра немцы потребуют от нас заключения мира с Украинской Радой; это есть у них в условиях мира, но пока еще не оформлено. Подпишем ли мы мир с Украинской Радой, которую мы разгоняли вместе с украинскими рабочими и крестьянами? Далее, от нас потребуют подписания мира и с Свинхувудом, когда он раздавит красную армию Финляндии. Это требование не исключено, напротив, оно логически вытекает из условий мирного договора. Пойдем ли мы на это, повторяя, что мы слабы и не можем отказать и сопротивляться? Что же это значит? Что революционный пролетариат при данных условиях не может дать того отпора, который вытекает из его положения, – господствующего класса в стране. Тогда скажите, что для революционного пролетариата Советская власть является слишком тяжелой ношей, вот что это значит. Центр тяжести в том, что для революционного класса допустимы сделки с империалистами лишь в тех пределах, в которых мы остаемся Советскою властью.[152] Эту власть надо развивать и усиливать. Неужели мы, оставаясь властью, все же будем, считаясь с неопределенной длительностью передышки, все более отступать и будем идти на уступки за уступками, не ставя решительно никаких пределов, не давая никакой гарантии? Мы слабы и потому уступаем не только топографически, но и политически – в вопросах об аннулировании займов, национализации нашей промышленности. Если мы дадим развиться этому отступлению во имя передышки с неопределенной перспективой, то это будет значить, что мы попадаем во внутренне-противоречивое положение. Мы говорим этим, что пролетариат России не в состоянии сохранить классовую власть в своих руках. Историческая комбинация условий передала ему эту власть, но он в силу разнообразных условий отдает, отступает не только в топографическом, но и в политическом смысле. Я думаю, что этого не случится, что мы построим, в конце концов, если не прекрасные железные дороги, то хоть сколько-нибудь сносные. Но нынешний период передышки исчисляется в лучшем случае двумя-тремя месяцами, а вернее, неделями и днями. В течение этого времени выяснится вопрос: либо события придут нам на помощь, либо мы заявим, что явились слишком рано и уходим в отставку, уходим в подполье, предоставляя сводить счеты со Свинхувудом или Украиной Чернову, Гучкову, Милюкову – этим призванным политиканам. Но я думаю, что уходить в отставку мы должны, если это придется, как революционная партия, т.-е. борясь до последней капли крови за каждую позицию. Перед такой перспективой ставят нас исторические условия.
Для развития революционного движения в Европе победа буржуазии над нами будет ударом, но нельзя его отождествлять с тем, что было после Парижской Коммуны. Тогда французский пролетариат был авангардом революции, остальная же Европа не имела никаких революционных традиций, погрязала в политическом отношении в полуфеодальном варварстве, теперь – совершенно другое. Европейский пролетариат более, чем мы, созрел для социализма. Если бы даже нас раздавили, то нет все же никакого сомнения, что не может создаться такого исторического провала, какой был после Парижской Коммуны.
Мы начали с натиска по всем направлениям; например, арестовали остзейских баронов, в то время когда уезжали из Брест-Литовска, а, между тем, арест этот был прямой провокацией по адресу германских империалистов. Это было в те самые дни, когда я заявил: «мы прекращаем войну». Арестовав в Прибалтике остзейских баронов, мы показали немцам кулак русской революции. Всякое подобное наше действие всегда будет провокацией по отношению к германским империалистам. И я спрашиваю: ставим ли мы себе какой-либо предел, где кончаются наши уступки? Я ставил этот вопрос в ЦИК и здесь снова его повторяю: Украина сражается, украинские пролетарии и солдаты сражаются с буржуазией; считаясь с создавшимся положением вещей, мы их не поддерживаем. Мы берем передышку. Но если немец потребует, чтобы мы подписали мир с Украинской Радой, подпишем мы его или нет? Некоторые товарищи из ЦК говорят: «да, подпишем», я говорю – нет. Это уже будет предательство в полном смысле слова. Ведь они сражаются сейчас, они сражаются с частью нашей собственной пролетарской армии. Поэтому я говорю: нет, товарищи, мира с Украинской Радой мы не подпишем. Есть известный предел, дальше которого мы идти не можем. Я не знаю еще, какая резолюция будет вам предложена, при том условии, что мир подписан. Революционной войны мы не можем вести, потому что тогда возник бы раскол в партии, и была бы подорвана Советская власть. Ратификация представляется неизбежной, но я хочу внести в эту резолюцию попытку поставить предел тому отступлению, которое есть не только отступление от известной границы, но и от известных принципов интернациональной политики. Мы должны сказать, что мы хотим получить известную передышку, хотим выиграть время для подготовки своих сил, но мы не можем во имя этой передышки подменить смысл нашей интернациональной политики в то время когда Украинская Рада душит украинских рабочих. Мы не можем заключить мира с киевской Радой, которая рассматривает украинских рабочих, как непосредственных классовых врагов.[153]
Мы, воздержавшиеся, показали акт большого самоограничения, так как мы жертвовали своим «я» во имя спасения единства партии в такой ответственный момент. Мы должны признать о другой стороне, что тот путь, на который она стала, имеет некоторые реальные шансы. Однако, это есть опасный путь, который может привести к тому, что спасают жизнь, отказываясь от ее смысла. Вы должны в этой резолюции дать нам гарантию того, что в нашем отступлении существует такой предел, дальше которого ЦК и Совет Народных Комиссаров отступать не позволят. (Рукоплескания.)
«Седьмой Съезд Росс. Комм. Партии», стр. 77–86.
Л. Троцкий. ЗАЯВЛЕНИЕ НА СЕДЬМОМ СЪЕЗДЕ РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ[154]
Я объяснял, товарищи, почему я воздержался в Центральном Комитете в один из самых ответственных моментов нашей политической жизни.
Я считал, что вести войну в таких условиях, когда партия не только окружена врагами со всех сторон, но и расколота, мы не можем. Поэтому я считал своим долгом предоставить ответственность той части партии, возглавляемой тов. Лениным, которая считала, что путь спасения лежит в данный период через подписание мира, и которая так глубоко была в этом убеждена, что считала возможным по этому вопросу ставить партию перед ультиматумом раскола. Сейчас здесь эта политика одобрена. Разумеется, это обстоятельство само по себе не могло изменить той позиции и той доли ответственности, которая ложится на меня в партии. Но здесь произошло нечто другое. Партийный съезд, высшее учреждение партии, косвенным путем отверг ту политику, которую я в числе других проводил в составе нашей брест-литовской делегации, которая имела известный международный отклик с двух сторон – и в рабочем классе, и среди правящих классов, и которая сделала имена участников этой делегации самыми ненавистными именами для буржуазии Германии и Австро-Венгрии; и сейчас вся германская и австро-венгерская пресса полны обвинений по адресу брест-литовской делегации и, в частности, по моему адресу в том смысле, что мы повинны в срыве мира и во всех дальнейших несчастьях. Хотел этого или не хотел партийный съезд, но он это подтвердил своим последним голосованием, и я слагаю с себя какие бы то ни было ответственные посты, которые до сих пор возлагала на меня наша партия.
«Седьмой Съезд Росс. Комм. Партии», стр. 147–148.
Л. Троцкий. БРЕСТСКИЙ ЭТАП[155]
Брест-Литовские мирные переговоры – в наше быстротекущее время – отошли уже в область далекого прошлого. Если Буасси д'Англа[156] считал, что год Великой Французской Революции равнялся столетию, то какой же масштаб выбрать для нашей эпохи – мировой капиталистической свалки и мировой революции?..
В Брест-Литовск мы отправлялись для того, чтобы заключить мир. Почему? Потому, что воевать не могли. На совещании представителей фронта мы произвели предварительно анкету, вывод которой был совершенно ясен: армия не хочет и не может воевать. Вывод этот был, впрочем, только формальным подтверждением вполне очевидного факта. Солдаты, пробужденные революцией, восстановленные ею против империалистической войны, не успевшие еще ни передохнуть, ни тем более разобраться во всей сложности мировой обстановки, не хотели более ни одного лишнего дня оставаться в окопах. Раз мы не могли вести войну, – мы вынуждены были заключить мир.
Но в то же время мы стремились использовать самые переговоры в целях международной революционной пропаганды.
Поистине, Брест-Литовская конференция была самой причудливой комбинацией, какую могла создать история: по одну сторону стола – представители могущественного тогда милитаризма, насквозь проникнутого победоносным солдафонством, кастовой надменностью и величайшим презрением ко всему не истинно гогенцоллернско-прусско-немецкому; по другую сторону – представители пролетарской революции, вчерашние эмигранты, которые в Берлин Гогенцоллерна въезжали не иначе, как с фальшивым паспортом в кармане{6}.
Конечно, немцы в эпоху переговоров были несравненно сильнее нас, – на это не раз «намекал» в выражениях полированной грубости барон фон-Кюльман, не говоря уже о генерале Гофмане, который не переставал громыхать и угрожать нам, представителям побежденной страны. Да мы это слишком хорошо знали и без их слов. Но у нас было в то же время одно огромное преимущество: мы гораздо лучше знали и понимали наших партнеров, чем они нас. Кюльман и те, кого он представлял, были, по-видимому, вполне уверены, что имеют дело со случайной группой, временно вознесенной сумасшедшим капризом истории на высоту, и что германский империализм за протянутый палец сможет получить все, что захочет, и в любой момент сможет без затруднения выдернуть палец. Кюльман представлял себе большевиков, как революционную разновидность тех колониальных «политиков» без роду и племени, выскочек, демагогов, которых можно на одном повороте истории использовать, чтобы затем, если понадобится, толкнуть их в спину. Пред глазами Кюльмана и Чернина вставали, вероятно, образы балканских дипломатов с их германо– или англофильскими и – фобскими симпатиями, связями и взятками. Кюльман долго не хотел верить, что мы каким-то качеством отличаемся от дипломатов… киевской Рады. Можно не сомневаться, что германский империализм никогда не затеял бы с нами мирных переговоров, если бы понимал нас, если бы предчувствовал, какая опасность ему отсюда грозит. Воевать мы все равно были бессильны. Восточный фронт был, следовательно, и без мирного договора пассивным для центральных империй, и они могли безнаказанно снимать свои войска и перебрасывать их на Запад. Если они вступили с нами в переговоры, то именно потому, что в их высокомерной ограниченности было немало исторического тупоумия. Они не понимали нас. Мы же знали их и предвидели последствия того, что произойдет. Вот почему Брест-Литовские переговоры в последнем счете целиком пошли на пользу русской и международной революции.
Руководящая роль в делегации Четверного Союза принадлежала по праву барону Кюльману. В этом баварце не было и тени пресловутого баварского добродушия; католик не вносил никакого диссонанса в прусско-бисмарковскую школу архи-прусских волкодавов. Если этот незаурядный реакционер с полной готовностью пошел навстречу открытым переговорам и во время их нимало не уклонялся от «принципиальной» постановки вопросов, то только потому, что не сомневался в том, что открытые переговоры нам нужны лишь для того, чтобы найти благовидную форму для нашей дружбы с династией Гогенцоллернов. И так как фон-Кюльман не сомневался в нашей дипломатической беспомощности, то готовился от избытка своей изобретательности найти подходящие юридические и политические формулы для капитуляции пролетарской революции пред мировой политикой германских юнкеров и биржевиков. Ошибочность расчета скоро обнаружилась, и этот господин, которому нельзя отказать в выдержке, все более и более раздражался, по мере того как убеждался, что мы относимся с полной серьезностью к собственным программным заявлениям и отнюдь не склонны принимать за чистую монету – хотя бы только притворно – благожелательное вранье капиталистической дипломатии. Кюльман и его сообщники прежде всего недоумевали, с чем имеют дело: с ограниченностью ли новичков, которые не разобрались в собственной выгоде, или с прямой недобросовестностью партнеров, которые нарушают правила молчаливо принятого соглашения.
Именно в этом последнем смысле изображали ход и смысл переговоров дипломаты и печать стран Согласия. Там не сомневались или притворялись, что не сомневаются в наличности предварительного соглашения между Советской властью и Вильгельмом II. Брест-Литовские переговоры оценивались, как более или менее неуклюжее прикрытие уже состоявшейся сделки пред лицом обманываемых революционных масс. В таком освещении печать Парижа, Лондона, Рима и Нью-Йорка ежедневно преподносила осколки Брест-Литовских переговоров общественному мнению рабочих масс стран Согласия. Мало того, жалкие пошляки типа Бернштейна обвиняли нас внутри самой Германии в противо-революционном сотрудничестве с правительством Гогенцоллерна.
В этом обстоятельстве заключалось большое политическое, то есть агитационно-психологическое затруднение для формального заключения мира. Отсюда возникли разногласия. Мы все были солидарны в том, что переговоры нужно тянуть как можно долее, чтобы извлечь из них весь агитационный «капитал» и в то же время выгадать как можно более времени, дав истории возможность приблизить нас к германской и обще-европейской революции. Разногласия начинались с вопроса: как быть в случае ультиматума? Тов. Ленин ставил вопрос ребром: ни в каком случае не доводить переговоров до разрыва. Раз мы не можем вести войну, то непозволительно играть с войной. Меньшинство партии, наоборот, считало обязательным довести переговоры до разрыва, чтобы ответить на наступление партизанской войной. Наконец, было течение, которое считало невозможным военное сопротивление, но в то же время находило необходимым довести переговоры до открытого разрыва, до нового наступления Германии, так, чтобы капитулировать пришлось уже перед очевидным применением империалистской силы и вырвать тем самым почву из-под ног инсинуаций и подозрений, будто переговоры являются только прикрытием уже состоявшейся сделки. Этот агитационный довод представлялся решающим автору настоящих строк. При борьбе двух крайних течений в партии временное преобладание получила «средняя» точка зрения, давшая каждому из флангов надежду на то, что дальнейший ход событий подтвердит правильность его диагноза и прогноза.
Переговоры были прерваны. Германия перешла в наступление даже без оговоренного перемирием предупреждения за семь дней. Тот минимум усилия, который понадобился для этого мошенничества, был братски поделен бароном Кюльманом и генералом Гофманом, которые, вообще говоря, во всех других отношениях жили, как кошка с собакой.[157] Переход немцев в наступление, захват ими ряда городов, расстрелы коммунистов на Украине – все это слишком ясно показало, что дело идет не о закулисной сделке. Нам ничего не оставалось, как временно капитулировать пред силой.
Нет никакого сомнения в том, что если мы не оказались вовлеченными в безнадежную войну, которая закончилась бы разгромом русской революции в течение 2–3 месяцев, то этим партия и революция обязана той решительности, с какой тов. Ленин поставил вопрос о необходимости временной капитуляции, – «перехода на нелегальное положение по отношению к германскому империализму», как выражался он на партийных собраниях. Но, оглядываясь назад, можно сейчас с полной уверенностью сказать, что временный разрыв Брест-Литовских переговоров и переход германских войск в наступление против нас в последнем счете не повредил, а, наоборот, помог делу европейской революции. После захвата немцами Двинска, Ревеля и Пскова английские и французские рабочие не могли, разумеется, верить, что дело идет о закулисном сотрудничестве большевиков с Гогенцоллерном. Это надолго затруднило бандитам Согласия возможность наступать на нас. Тов. Раковский однажды выразился так: «Если подписание Брестского мира второй формации избавило нас от дальнейшего наступления германского империализма, то предшествовавший отказ подписать Брестский мир первой формации надолго избавил нас от наступления стран Согласия». Во всяком случае, здесь уместно более, чем где бы то ни было, сказать: все хорошо, что хорошо кончается.