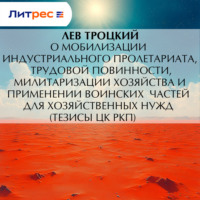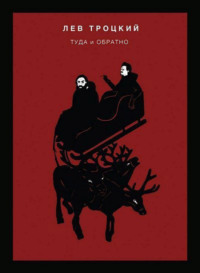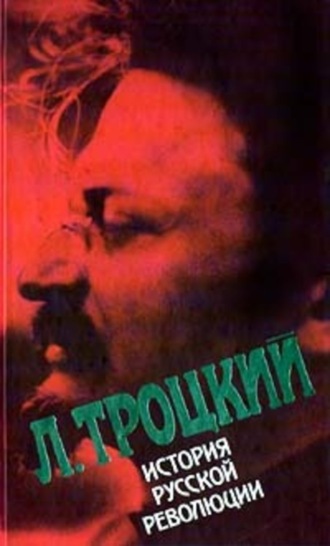 полная версия
полная версияИстория русской революции. Том II, часть 2
«У местного крестьянства, – доносил нижегородский комиссар, – укрепилось сознание, что все гражданские законы утратили свою силу и что все правоотношения теперь должны регулироваться крестьянскими организациями». Распоряжаясь на местах милицией, волостные комитеты издавали местные законы, устанавливали арендные цены, регулировали заработную плату, ставили в имениях своих управляющих, забирали в свои руки землю, покосы, леса, инвентарь, отбирали у помещиков оружие, производили обыски и аресты. Голос столетий и свежий опыт революции одинаково говорили мужику, что вопрос о земле есть вопрос силы. Для аграрного переворота нужны были органы крестьянской диктатуры. Мужик не знал еще этого латинского слова. Но мужик знал, чего хочет. Та «анархия», на какую жаловались помещики, либеральные комиссары и соглашательские политики, была на самом деле первым этапом революционной диктатуры в деревне.
Необходимость создания особых чисто крестьянских органов земельного переворота на местах Ленин отстаивал еще во время событий 1905–1906 годов. «Крестьянские революционные комитеты, – доказывал он на съезде партии в Стокгольме, – есть единственный путь, которым только и может идти крестьянское движение». Мужик не читал Ленина. Но зато Ленин хорошо читал в мыслях мужика.
Деревня меняет свое отношение к советам только к осени, когда сами советы меняют свой политический курс. Большевистские и левоэсеровские советы в уездном или губернском городе уже не сдерживают крестьян, наоборот, толкают их вперед. Если в первые месяцы деревня искала у соглашательских советов легального прикрытия, чтобы затем прийти во враждебное столкновение с ними, то теперь она в революционных советах впервые стала находить настоящее руководство. Саратовские крестьяне писали в сентябре: «Власть должна перейти по всей России в руки… советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Так будет надежнее». Только к осени крестьянство начинает связывать свою земельную программу с лозунгом власти советов. Но и здесь еще оно не знает, кто и как эти советы направит. Аграрные волнения имели в России свою большую традицию, свою простую, но яркую программу, своих местных мучеников и героев. Грандиозный опыт 1905 года не прошел бесследно и для деревни. К этому надо прибавить работу сектантской мысли, охватывавшей миллионы крестьян. «Я знавал, – пишет осведомленный автор, – многих крестьян, воспринявших… Октябрьскую революцию, как прямое осуществление своих религиозных чаяний». Из всех известных историй крестьянских восстаний движение русского крестьянства 1917 года было, несомненно, в наибольшей мере оплодотворено политическими идеями. Если оно тем не менее оказалось неспособно создать самостоятельное руководство и взять в собственные руки власть, то причины этого заложены в органической природе изолированного мелкого и рутинного хозяйства: высасывая из мужика все соки, оно не наделяло его взамен способностью обобщения.
Политическая свобода крестьянина означает на практике свободу выбирать между разными городскими партиями. Но и этот выбор не производится априорно. Своим восстанием крестьянство толкает большевиков к власти. Но, только завоевав власть, большевики смогут завоевать крестьянство, превратив аграрную революцию в закон рабочего государства.
Группа исследователей под руководством Яковлева произвела крайне ценную классификацию материалов, характеризующих эволюцию аграрного движения от февраля к октябрю. Приняв число неорганизованных выступлений в каждом месяце за 100, исследователи подсчитали, что «организованных» конфликтов приходилось на апрель 33, на июнь – 86, на июль – 120. Это и был момент наивысшего расцвета эсеровских организаций в деревне. В августе на 100 неорганизованных конфликтов приходится уже только 62 организованных, а в октябре – всего навсего 14. Из этих цифр, чрезвычайно поучительных при всей их условности, Яковлев делает, однако, совершенно неожиданный вывод: если до августа движение становилось все более «организованным», то осенью, наоборот, оно приобретает все более «стихийный характер». К той же формуле приходит другой исследователь, Верменичев: «Снижение доли организованного движения в период предоктябрьской волны свидетельствует о стихийности движения в эти месяцы». Если стихийность противопоставлять сознательности, как слепоту зрячести, – а это есть единственно научное противопоставление, – то пришлось бы прийти к выводу, что сознательность крестьянского движения до августа повышается, а затем начинает падать, чтобы совсем исчезнуть в момент октябрьского восстания. Этого наши исследователи явно не хотели сказать. При сколько-нибудь вдумчивом отношении к вопросу нетрудно понять, что, например, крестьянские выборы в Учредительное собрание, несмотря на их внешнюю «организованность», имели несравненно более «стихийный», т. е. неразумный, стадный, слепой, характер, чем «неорганизованный» крестьянский поход против помещика, где каждый крестьянин ясно знал, чего хочет.
На осеннем перевале крестьянство порывало не с сознательностью ради стихийности, а с соглашательским руководством ради гражданской войны. Упадок организованности имел, по существу, внешний характер: соглашательские организации отпадали, но после них оставалось вовсе не пустое место. Выход на новую дорогу происходил под непосредственным руководством наиболее революционных элементов: солдат, матросов, рабочих. Приступая к решительным действиям, крестьяне созывали нередко общее собрание и даже заботились о том, чтобы постановление было подписано всеми односельчанами. «В осенний период крестьянского движения с его разгромными формами, – пишет третий исследователь, Шестаков, – чаще выступает на сцену старый „сход“ крестьян… Сходом же делит крестьянство отобранное добро, через сход ведет переговоры с помещиками и администрацией имений, с уездными комиссарами и разного рода усмирителями…»
Почему сходят со сцены волостные комитеты, которые вплотную подвели крестьян к гражданской войне, на этот счет в материалах нет прямых указаний. Но объяснение напрашивается само собою. Революция крайне быстро изнашивает свои органы и орудия. Уже вследствие того что земельные комитеты руководили полумирными действиями, они должны были оказаться малопригодны для прямого штурма. Общая причина дополняется частными, но не менее вескими. Выступая на путь открытой войны с помещиками, крестьяне слишком хорошо знали, что грозит им в случае поражения. Немало земельных комитетов и без того уже сидело у Керенского под замком. Рассредоточить ответственность становилось необходимым требованием тактики. Наиболее пригодной формой для этого являлся «мир». В том же направлении действовали, несомненно, и обычная недоверчивость крестьян друг к другу: дело шло теперь о прямом захвате и дележе помещичьего добра, каждый хотел участвовать сам, не передоверяя никому своих прав. Так высшее обострение борьбы вело к временному отстранению представительных органов первобытной крестьянской демократией в виде схода и мирского приговора.
Грубая сбивчивость в определении характера крестьянского движения должна казаться особенно неожиданной под пером большевистских исследователей. Но нельзя забывать, что дело идет о большевиках нового склада. Бюрократизация мышления неизбежно ведет к переоценке тех форм организации, какие навязывались крестьянству сверху, и недооценке тех, которые крестьянство само себе давало. Просвещенный чиновник вслед за либеральным профессором рассматривает общественные процессы под углом зрения управления. В качестве народного комиссара земледелия Яковлев проявил впоследствии тот же суммарно-бюрократический подход к крестьянству, но уже в неизмеримо более широкой и ответственной области, именно при проведении «сплошной коллективизации». Теоретическая поверхность жестоко мстит за себя, когда дело идет о практике большого масштаба!
Но до ошибок сплошной коллективизации остается еще добрых тринадцать лет. Сейчас дело идет только об экспроприации земельной собственности. 134 000 помещиков еще дрожат над своими 80 миллионами десятин. Наиболее угрожаемым является положение верхушки, 30 тысяч господ старой России, которые владеют 70 миллионами десятин, свыше 2000 десятин в среднем на владельца. Дворянин Боборыкин пишет камергеру Родзянко: «Я – помещик, и в моей голове как-то не укладывается, чтобы я лишился моей земли, да еще для самой невероятной цели: для опыта социалистических учений». Но революция и имеет задачей совершить то, что не укладывается у правящих в головах.
Более дальновидные помещики не могут, однако, не видеть, что имений им не удержать. Они уже и не стремятся к этому: чем скорее развязаться с землею, тем лучше. Учредительное собрание представляется им прежде всего как большая расчетная палата, где государство возместит их не только за землю, но и за треволнения. Крестьяне-собственники примыкали к этой программе слева. Они не прочь были прикончить паразитическое дворянство, но опасались расшатать понятие земельной собственности. Государство достаточно богато, заявляли они на своих съездах, чтобы заплатить помещикам каких-нибудь 12 миллиардов рублей. В качестве «крестьян» они рассчитывали при этом воспользоваться на льготных условиях помещичьей землицей, оплаченной за счет народа.
Собственники понимали, что размер выкупных платежей есть политическая величина, которая будет определена соотношением сил к моменту расплаты. До конца августа оставалась надежда на то, что созванное по-корниловски Учредительное собрание проведет линию аграрной реформы между Родзянко и Милюковым. Крушение Корнилова означало, что имущие классы проиграли игру.
В течение сентября и октября помещики ждут развязки, как безнадежно больной ждет смерти. Осень есть время мужицкой политики. Убраны поля, развеяны иллюзии, утрачено терпение. Пора кончать! Движение выходит из берегов, захватывает все районы, стирает местные особенности, вовлекает все слои деревни, смывает все соображения закона и осторожности, становится наступательным, неистовым, свирепым, бешеным, вооружается железом и огнем, револьвером и гранатой, сокрушает и выжигает усадьбы, изгоняет помещиков, очищает землю, кое-где поливает ее кровью.
Гибнут дворянские гнезда, воспетые Пушкиным, Тургеневым и Толстым. Дымом исходит старая Россия. Либеральная пресса собирает стенания и вопли о разрушении английских садов, картин крепостной кисти, родовых библиотек, тамбовских партенонов, скаковых лошадей, старинных гравюр, племенных быков. Буржуазные историки пытаются возложить на большевиков ответственность за «вандализм» крестьянской расправы над дворянской «культурой». На самом деле русский мужик завершал дело, начатое за много столетий до появления на свет большевиков. Свою прогрессивную историческую задачу он выполнял теми единственными способами, которые были в его распоряжении, – революционным варварством он искоренял варварство средневековья. К тому же ни сам он, ни деды его, ни прадеды никогда не видели ни милости, ни снисхождения.
Когда феодалы взяли верх над жакерией, на четыре с половиной века опередившей освобождение французских крестьян, благочестивый монах записал в своей хронике: «Они причинили столько зла стране, что не было нужды в приходе англичан для разрушения королевства; те никогда не могли бы сделать того, что сделали дворяне Франции». Только буржуазия – в мае 1871 года – превзошла по свирепости французских дворян. Русские крестьяне благодаря руководству рабочих, русские рабочие благодаря поддержке крестьян избежали этого двойного урока защитников культуры и человечности.
Взаимоотношения между основными классами России нашли свое воспроизведение в деревне. Как против монархии дрались рабочие и солдаты наперекор планам буржуазии, так против помещиков смелее всего поднималась беднота, не слушая предостережений кулака. Как соглашатели верили, что революция станет прочно на ноги лишь с момента, когда Милюков признает ее, так озирающемуся направо и налево середняку представлялось, что подпись кулака узаконяет захваты. Подобно тому, наконец, как враждебная революции буржуазия не задумалась присвоить себе власть, так кулаки, противодействовавшие разгрому, не отказались воспользоваться его плодами. Власть в руках буржуа, как и помещичье добро в руках кулака удержались недолго – в обоих случаях в силу однородных причин.
Могущество аграрно-демократической, по существу буржуазной революции выразилось в том, что она преодолела на время классовые противоречия села: батрак громил помещика, помогая кулаку. XVII, XVIII и XIX века русской истории поднялись на плечах XX века и пригнули его к земле. Слабость запоздалой буржуазной революции выразилась в том, что крестьянская война не толкнула буржуазных революционеров вперед, а, наоборот, окончательно отбросила их в лагерь реакции: вчерашний каторжанин Церетели охранял помещичью землю от анархии! Отброшенная буржуазией крестьянская революция смыкалась с промышленным пролетариатом. Этим самым XX век не только высвобождался из-под навалившихся на него прошлых веков, но на плечах их поднимался на новую историческую высоту. Чтобы крестьянин мог очистить и разгородить землю, во главе государства должен был стать рабочий – такова простейшая формула Октябрьской революции.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Язык важнейшее орудие связи человека с человеком, а следовательно, и хозяйства. Он становится национальным языком вместе с победой товарного оборота, объединяющего нацию. На этой основе складывается национальное государство, как наиболее удобная, выгодная, нормальная арена капиталистических отношений. В Западной Европе эпоха формирования буржуазных наций, если оставить в стороне борьбу Нидерландов за независимость и судьбу островной Англии, началась с Великой французской революции и в основном завершилась примерно в течение столетия, с образованием Германской империи.
Но в тот период, когда национальное государство в Европе уже перестало вмещать производительные силы и перерастало в империалистское государство, на Востоке – в Персии, на Балканах, в Китае, Индии – только еще открывалась эра национально-демократических революций, толчок которым был дан русской революцией 1905 года. Балканская война 1912 года представляла завершение формирования национальных государств на юго-востоке Европы. Последовавшая затем империалистская война попутно доделала в Европе недоделанную работу национальных революций, приведя к расчленению Австро-Венгрии, к созданию независимой Польши и пограничных государств, выделившихся из империи царей.
Россия сложилась не как национальное государство, а как государство национальностей. Это отвечало ее запоздалому характеру. На основе экстенсивного сельского хозяйства и кустарного ремесла торговый капитал развивался не вглубь, не преобразуя производство, а вширь, увеличивая радиус своих операций. Торговец, помещик и чиновник продвигались от центра к периферии, вслед за расселявшимися крестьянами, которые в поисках свежей земли и свободы от поборов проникали на новые территории с еще более отсталыми племенами. Экспансия государства была в основе своей экспансией сельского хозяйства, которое, при всей своей первобытности, обнаруживало превосходство над кочевниками Юга и Востока. Сформировавшееся на этой необъятной и неизменно расширявшейся базе сословно-бюрократическое государство стало достаточно сильным, чтобы подчинять себе на Западе отдельные нации более высокой культуры, но не способные, в силу малочисленности или внутреннего кризиса, отстоять свою самостоятельность (Польша, Литва, Прибалтика, Финляндия).
К 70 миллионам великороссов, составивших главный массив страны, прибавилось постепенно около 90 миллионов «инородцев», которые резко делились на две группы: западных, превосходящих великороссов своей культурой, и восточных, стоящих на более низком уровне. Так сложилась империя, в составе которой господствующая национальность составляла лишь 43 % населения, а 57 %, в том числе 17 % украинцев, 6 % поляков, 4 1/2 % белорусов, падали на национальности различных степеней культуры и бесправия.
Жадная требовательность государства и скудость крестьянской базы под господствующими классами порождали самые ожесточенные формы эксплуатации. Национальный гнет в России был несравненно грубее, чем в соседних государствах не только по западную, но и по восточную границу. Многочисленность бесправных наций и острота бесправия сообщали национальной проблеме в царской России огромную взрывчатую силу.
Если в национально однородных государствах буржуазная революция развивала могучие центробежные тенденции, проходя под знаменем преодоления партикуляризма, как во Франции, или национальной раздробленности, как в Италии и Германии, то в национально разнородных государствах, как Турция, Россия, Австро-Венгрия, запоздалая буржуазная революция разнуздывала, наоборот, центростремительные силы. Несмотря на видимую противоположность этих процессов, выраженных в терминах механики, их историческая функция одинакова, поскольку в обоих случаях дело идет о том, чтобы использовать национальное единство как основной хозяйственный резервуар: Германию нужно было для этого объединить. Австро-Венгрию, наоборот, – расчленить. Неизбежность развития центробежных национальных движений в России Ленин учел заблаговременно и в течение ряда лет упорно боролся, в частности против Розы Люксембург, за знаменитый параграф 9 старой партийной программы, формулировавший право наций на самоопределение, т. е. на полное государственное отделение. Этим большевистская партия вовсе не брала на себя проповедь сепаратизма. Она обязывалась лишь непримиримо сопротивляться всем и всяким видам национального гнета, в том числе и насильственному удержанию той или другой национальности в границах общего государства. Только таким путем русский пролетариат мог постепенно завоевать доверие угнетенных народностей.
Но это была лишь одна сторона дела. Политика большевизма в национальной области имела и другую сторону, как бы противоречащую первой, а на самом деле дополняющую ее. В рамках партии и вообще рабочих организаций большевизм проводил строжайший централизм, непримиримо борясь против всякой заразы национализма, способной противопоставить рабочих друг другу или разъединить их. Начисто отказывая буржуазному государству в праве навязывать национальному меньшинству принудительное сожительство или хотя бы государственный язык, большевизм считал в то же время своей поистине священной задачей как можно теснее связывать посредством добровольной классовой дисциплины трудящихся разных национальностей воедино. Так, он начисто отвергал национально-федеративный принцип построения партии. Революционная организация – не прототип будущего государства, а лишь орудие для его создания. Инструмент должен быть целесообразен для выделки продукта, а вовсе не включать его в себя. Только централистическая организация может обеспечить успех революционной борьбы, так же и в том случае, когда дело идет о разрушении централистического гнета над нациями.
Низвержение монархии для угнетенных наций России должно было по необходимости означать и их национальную революцию. Здесь обнаружилось, однако, то же, что и во всех остальных областях февральского режима: официальная демократия, связанная своей политической зависимостью от империалистской буржуазии, оказалась совершенно неспособна разрушить старые оковы. Считая бесспорным свое право решать судьбу всех остальных наций, она продолжала ревниво охранять те источники богатства, силы, влияния, которые давало великорусской буржуазии ее господствующее положение. Соглашательская демократия лишь перевела традиции национальной политики царизма на язык освободительной риторики: дело шло теперь о защите единства революции. Но у правящей коалиции был и другой, более острый довод: соображения военного времени. Это значит, освободительные стремления отдельных национальностей изображались как дело рук австро-германского штаба. Первую скрипку и тут играли кадеты, соглашатели вторили.
Новая власть не могла, конечно, оставить в неприкосновенности отвратительный клубок средневековых издевательств над инородцами. Но она надеялась и пыталась ограничиться одним лишь упразднением исключительных законов против отдельных наций, т. е. установлением голого равенства всех частей населения перед великорусской государственной бюрократией.
Формальное равноправие больше всего давало евреям: число законов, ограничивавших их права, достигало 650. К тому же в качестве чисто городской и наиболее распыленной национальности евреи не могли претендовать не только на государственную самостоятельность, но и на территориальную автономию. Что касается проекта так называемой «национально-культурной автономии», которая должна была объединить евреев на протяжении всей страны вокруг школ и других учреждений, то та реакционная утопия, заимствованная разными еврейскими группами у австрийского теоретика Отто Бауэра, растаяла с первым днем свободы, как воск под лучами солнца.
Но революция потому и революция, что она не удовлетворяется ни подачками, ни расплатой в рассрочку. Устранение наиболее постыдных ограничений устанавливало формальное равноправие граждан независимо от национальности; но тем острее обнаруживало неравноправное положение самих наций, оставляя большинство их на положении пасынков и приемышей великорусского государства.
Гражданское равноправие ничего не давало прежде всего финнам, которые стремились не к равенству с русскими, а к независимости от России. Оно ничего не прибавляло украинцам, которые и раньше не знали никаких ограничений, потому что их принудительно объявили русскими. Оно ничего не меняло в положении латышей и эстонцев, придавленных немецкой помещичьей усадьбой и русско-немецким городом. Оно ничем не облегчало судьбы отсталых народов и племен Азии, удерживавшихся на самом дне бесправия не юридическими ограничениями, а цепями экономической и культурной кабалы. Все эти вопросы либерально-соглашательская коалиция не хотела даже поставить. Демократическое государство оставалось тем же государством великорусского чиновника, который никому не собирался уступать свое место.
Чем более глубокие массы захватывала революция на окраинах страны, тем больше обнаруживалось, что государственный язык является там языком имущих классов. Режим формальной демократии, со свободой печати и собраний, заставил отсталые и угнетенные национальности еще болезненнее почувствовать, насколько они лишены самых элементарных средств культурного развития: своей школы, своего суда, своего чиновничества. Отсылки к будущему Учредительному собранию только раздражали: ведь в собрании будут господствовать те же партии, которые создали Временное правительство и продолжают отстаивать традиции русификаторства, обнаруживая с ревнивой жадностью ту черту, дальше которой правящие классы не хотят идти.
Финляндия сразу стала занозой в теле февральского режима. Благодаря остроте аграрного вопроса, имевшего в Финляндии характер вопроса о торпарях, т. е. мелких кабальных арендаторах, промышленные рабочие, составлявшие всего 14 % населения, вели за собою деревню. Финляндский Сейм оказался единственным в мире парламентом, где социал-демократы получили большинство: 103 из 200 депутатских мест. Провозгласив законом 5 июня Сейм суверенным, за изъятием вопросов армии и внешней политики, финляндская социал-демократия обратилась «к товарищеским партиям России» за поддержкой. Обращение оказалось направлено совсем не по адресу. Временное правительство сперва отошло к стороне, предоставив действовать «товарищеским партиям». Увещательная делегация во главе с Чхеидзе вернулась из Гельсингфорса ни с чем. Тогда социалистические министры Петрограда: Керенский, Чернов, Скобелев, Церетели – решили насильственно ликвидировать социалистическое правительство Гельсингфорса. Начальник штаба ставки монархист Лукомский предупреждал гражданские власти и население Финляндии, что в случае каких-либо выступлений против русской армии «их города, и в первую очередь Гельсингфорс, будут разгромлены». После этой подготовки правительство торжественным манифестом, представлявшим даже в стилистическом отношении плагиат у монархии, распустило Сейм и в день начала наступления на фронте поставило у дверей финляндского парламента снятых с фронта русских солдат. Так революционные массы России получили на пути к Октябрю неплохой урок насчет того, какое условное место занимают принципы демократии в борьбе классовых сил.
Перед лицом националистической разнузданности правящих революционные войска в Финляндии заняли достойную позицию. Областной съезд советов, происходивший в Гельсингфорсе в первой половине сентября, заявил: «Если финляндская демократия найдет нужным возобновить заседания Сейма, то всякие попытки учинить препятствие к этому съезд будет рассматривать как акт контрреволюционный». Это означало прямое предложение военной помощи. Но стать на путь восстания финляндская социал-демократия, в которой преобладали соглашательские тенденции, не была готова. Новые выборы, происходившие под угрозой нового роспуска, обеспечили буржуазным партиям, по соглашению с которыми правительство и распустило Сейм, небольшое большинство: 108 из 200.