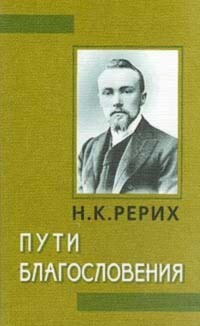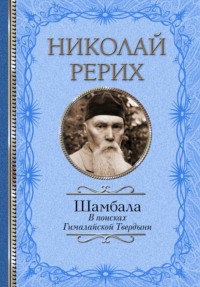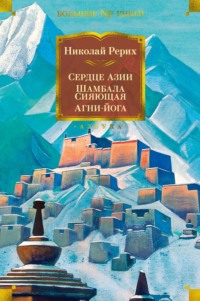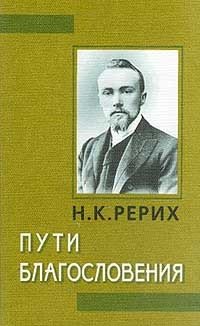Полная версия
Врата в будущее (сборник)

Николай Рерих
Врата в будущее (сборник)
Крылья
Окрылились люди! Бороздят синеву самолеты. Несут ли добрые вести? Или панацеи? Или знания? Или помощь? А вдруг – бомбы? А вдруг губительные газы? А вдруг уничтожение? Чего больше?
Допущены ли бомбы, газы, убийства? Разрешено ли поношение рода человеческого? На каком совете решено убийство? Мирный поселянин где-то строит очаг, а может быть, за морями уже готовятся бомбы и яды, чтобы умертвить детей его! Кто знает, где таятся злоумышления? Где готовятся покушения? Не огрубело ли сознание, если оно так легко привыкло к созерцанию убийств? Люди ведь готовы платить за зрелище казни, точно в римском Колизее!
Захотел, повелел, и крылья человечества понесут смерть и гибель. А печатные листы отметят малым набором об уничтожении женщин и детей. Без крыльев эти убийства и не совершились бы. Итоги давних войн несравнимы с гекатомбами наших дней. Несравнимы и размеры всех разрушений, – ведь прежде они совершались примитивно, а теперь «цивилизованно». Где же заветы о такой цивилизации? Где же право на попрание всего достоинства человеческого?
Такими ли крыльями охранены врата в будущее?!
Но положим, что самолеты несут не губительных колдунов, не Черноморов, но вестников добрых. Предположим, что поворот рычага радио донесет лучшие созвучия. Отринем всякие наркотики, чтобы утвердилась трезвость. София, Вера, Надежда, Любовь – разве призраки? В век Матери Мира защитницы строения соберутся и окрылятся добрыми крыльями.
* * *Французский ученый нашел в Ордосе своеобразные остатки древних несториан. Таким образом, знание местных языков и понимание местной жизни позволяет находить то, что еще вчера казалось уже несуществующим. То же самое, вероятно, можно сказать и о многих племенах пленников, переселенных когда-то в самые неожиданные местности. Так в мусульманском городе можно слышать буддийские напевы, а среди Китая можно узнавать традиции Каабы-Мекки и Медины.
Нет никаких возможностей проследить историю всех этих необычайных путей и наслоений. Можно с изумлением видеть, как, например, аланские наименования проникли по всей Европе, или как кельтские обычаи иногда сохранились в своеобразных перетолкованиях и во Франции, и в Шотландии, и в Испании – в самых, казалось бы, неожиданных местностях. Когда в итальянских примитивах вы замечаете несомненное знание и близкое соприкосновение с далеким Востоком, то еще раз вам становится ясным, насколько в далекие времена существовали гораздо большие международные сношения, нежели можно было представить. Джиованни ди Паоло знал Восток, когда изображал своих «Трех магов»! Знаем о посольствах, которые ехали к месту назначения целые десятки лет, не теряя при этом своего смысла. Значит, не столько примитивность бывших веков, сколько просто другой темп и ритм действий лежали в основе жизни.
Окрылились люди. Сейчас они перелетели, стремительно перенеслись через пространство. Они заспешили и затолкались, как на базаре перед его закрытием.
Уже раздаются голоса о тщетности такой поспешности, неоправданной духовными запросами и утверждениями. Люди стирают многие бывшие границы и в то же самое время изобретают подобные же, а может быть, и еще горшие ограничения. Ведь в древности границы бывали, прежде всего, символом защиты. Даже каждый двор бывал огражден, защищен. Разве не злоба, недоверие и вражда сейчас диктуют международные распри? Ради взаимного унижения люди готовы увлечься самыми нелепыми и злобно надушенными измышлениями. В таких порожденных недоброжелательством ограничениях, как духовных, так и физических, возникает новый ужас отрицаний. Среди всей этой разрушительной негативности, граничащей с невежественностью, опять затрудняется всякое разумное строительство. Кто-то когда-то сказал – «тесна моя улица!» Может быть, тогда теснота происходила от средневековых костров, а сейчас разве не те же, уже незримые, костры полыхают тем же пламенем злобы?
Разобраться во всей сложности вопля часа можно лишь доброжелательством, презрев все темные и злобные препоны. Все-таки остаются в распоряжении людей и такие крылья, которые будут соответствовать успехам авиации. Крылья духа! Помогите оправдать и физические нахождения человечества! Иначе некуда лететь и наполнять пространство. Поворачивая рычаги самого примитивного радио, вызываются из пространства и мелодии, и стенания, и какой-то ужасный рев, точно в сферы проявленные врывается безобразный хаос. Казалось бы, и радио, и простая фотографическая фильма достаточно напоминают, сколько недоступного физическому глазу и уху человеческому! Даже простой школьный микроскоп должен на всю жизнь внушить уважение к изощренности и бесконечному разнообразию обычно неуловимых форм. Даже такие примитивные приспособления должны бы обогащать благородство человеческого мышления, но происходит нечто странное, наука и ее достижения идут какими-то своими путями, а общечеловеческое мышление остается в каком-то обиходном прозябании.
Освободилось ли человечество от грубости мысли? Поняло ли оно высоту этики, воплощенную в жизни? Преклонился ли звериный произвол перед Высшим Строительством и восхитился ли дух человеческий великими Красотами надземными? Если вы зададите себе эти вопросы – труизмы среди грубых ударов бокса, среди окружающих хриплых воплей невежества, среди звериности наркотиков, среди нечеловеческой мерзости брани, среди убийства и взаимоуничтожения, то одно напоминание о вопросах благородства и созидания покажется чудовищно неуместным. Кабацкий ужас, звериное сквернословие, противочеловеческий разврат! Какое же может иметь соотношение к красоте это безобразие?!
Не от этих ли земных безобразий, углубленных современным человеком, кто-то хочет лететь в стратосферу? Кто-то хочет уйти хоть куда-нибудь выше и, может быть, принести еще одну формулу, которая проникла бы даже в озверелый мозг.
Эйнштейн советовал студентам временно удаляться на маяки для возможности сосредоточения в чистой науке. Многие возможности отвлечения от безобразного водоворота современности предлагают лучшие умы. Многие пустыни могут расцвести. Многие мечтают о крыльях, но эти крылья не есть лопасти аэропланов, несущих убийственные бомбы.
К каждому Новому Году будем объединять наше мышление на том, что суждены человечеству крылья, и оно получит их, когда захочет помыслить о них всею силою духа.
10 декабря 1934 г.Пекин.Лихочасье
Всем памятны знаменательные слова Ломоносова об отставлении Академии Наук от него.
«Ярость врагов с робостью друзей состязаются» – так отвечал Менделеев на вопросы – какой смысл в ярко несправедливом к нему отношении со стороны Петербургской Академии Наук! Нечто в том же роде заметил и Пирогов по поводу недоброжелательного отношения со стороны врачей.
В одной из неоконченных повестей Пушкин говорит: «Перед чем же я робею». «Перед недоброжелательством», – отвечал русский. Это черта наших нравов. В народе она выражается насмешкой, а в высшем кругу невниманием и холодностью. Не могу не добавить несколько строк из пушкинского «Путешествие в Эрзерум», которое кончается так: «На столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи… Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве». Так говорит Пушкин.
А вот как скорбно поминает Гоголь в своей переписке о несправедливом к Пушкину отношении: «Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть в свете, видя во всем одно бесовское. Их удел – впадать в самые грубые ошибки. Нечто тому подобное случилось недавно в литературе. Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно, как будто они побывали в душе Пушкина; точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догматах христианских, за которые и сам святитель Церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшею святостью своей жизни. По их понятиям, следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки». «Я не могу даже понять, как могло прийти в ум критику, печатно, в виду всех, взводить на Пушкина такое обвинение, и что сочинения его служат к развращению света, тогда как самой цензуре предписано, в случае, если бы смысл такого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону, а не в кривую и вредящую ему. Если это постановлено в закон цензуре, безмолвной и безгласной, но не имеющей даже возможности оговориться перед публикою, то во сколько раз больше должна это поставить себе в закон критика, которая может изъясняться и говориться в малейшем действии своем. Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа! Разве это христианское дело? Да и кто же из вас Христианин? Этак я могу обвинить самого критика в нехристианстве».
О себе Гоголь в авторской исповеди пишет: «Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как „Выбранные места из переписки с друзьями“. И, что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе – предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением».
Сколько скорби в этих признаниях!
Разве не тем же полна трагическая жизнь Лермонтова?..
Разве конец Мусоргского не от тех же темных причин?..
Вспоминаются полные болью слова Врубеля или рассказ Куинджи о том, как злые люди считали, что он вовсе и не Куинджи, но крымский пастух, убивший художника Куинджи.
Разве такое злоумышление не есть яркое свидетельство уже давно отмеченного недоброжелательства? Чем бы ни объяснять такое темное чувство, все равно никакого разумного смысла в нем не найдется; объяснить ли его только завистью? Но такое объяснение будет слишком ограниченно. Объяснить невежеством и дикостью? Но тогда почему даже у диких племен часто высказывается взаимоуважение?
Каким же таким низменным темным состоянием нужно объяснить, когда у нас на глазах, русскую гордость, Голенищева-Кутузова называют изменником?
Какая же тут зависть!
Ведь это уже будет относиться к тому скотскому состоянию, о котором так горько и проникновенно сказал еще Котошихин.
Казалось бы, века прошли!
Казалось бы, на земле прошло столько ужасов, что, хотя бы из примитивной предосторожности, должна быть проявлена хотя бы предусмотрительность. Ведь прозвище Скотинина не должно радовать того, кто считает себя человекообразным.
Но наряду с низким Скотининым существует и злобное сатанинство. И никак Вы иначе не назовете это ужасно разрушительное состояние. Если с одной стороны несется торжествующий рев, угрожающий разрушением всем храмам и музеям, то с другой стороны готовятся пистолеты, чтобы застрелить всех Пушкиных и обозвать изменниками всех Голенищевых-Кутузовых и прочих героев Российской Истории.
Да, истинно, не только в войнах разрушаются Культурные Сокровища. Ценнейшие сосуды разбиваются в судорогах злобы. В полном одичании, в судорогах безумия произносятся самые разрушительные формулы. При этом потрясает та чудовищная безответственность, которая не дает себе труда хотя бы помыслить, к каким следствиям приведет это буйно-дикое состояние?
Буйный безумец должен разрушать, и, конечно, его животный мозг даже и не умеет одуматься и заглянуть в приуготовленное им самим же.
Где тут критика?
Где тут насмешливость?
Где тут недоброжелательство?
В ярости безумия смешиваются все формы. В безобразии хаоса уже не различаются никакие границы. А ведь припадки безумия бывают заразительны.
Сколько исторических примеров массового безумия.
Целые эпидемии психические возникали и горестно запечатлевались на страницах истории человечества. Но не странно ли видеть, что приговор Котошихина должен повториться и в словах Пушкина, должен так же отмечаться опять через столетия. Не слишком ли застарела болезнь? Не приспело ли время обратиться к вечным панацеям Добра и Света, и Законам Божеским, чтобы отогнать приступы сатанизма?
Когда сгущаются солнечные пятна, когда космически твердь содрогается, не пора ли сосредоточиться на мысли о том, как изгнать всеразрушающее безумие злобы?
Не пора ли признать, что ложь и клевета порождают самых безобразных пространственных сущностей?
Не наступает ли последний час, чтобы развернуть запыленные кодексы добра и отмыть глаз сердца?
Но Гоголь, сердцеведец, говорит также и так: «Знаю, подло завелось теперь в земле нашей: думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их; перенимают, черт знает, какие басурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой со своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке».
«Но у последнего подлюжки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства; проснется оно когда-нибудь, – и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело».
Где же ты?
Зазвучи, отзовись, русское сердце!
12 декабря 1934 г.Пекин.О мире всего мира
«Имейте в себе соль и мир имейте между собою».
«О Мире всего мира». Не будет ли его моление одной из величайших утопий? Так говорит очевидность. Но сердце и действительная сущность продолжает повторять эти высокие слова, как возможную действительность. Если прислушаться к голосу поверхностной очевидности, то ведь и все заповеди окажутся неисполнимой утопией. Где же оно – «Не убий»? Где же оно – «Не укради»? Где же оно – «Не прелюбы сотвори»? Где же оно – «Не послушествуй на ближнего своего свидетельство ложно»? Где же исполнение и всех прочих простых и ясно звучащих основ Бытия? Может быть, какие-то умники скажут: «К чему и твердить эти указы, если они все равно не исполняются».
Каждому из нас приходилось много раз слышать всякие нарекания и предостережения против утопий. От детства и юношества приходилось слышать житейские советы, чтобы не увлекаться «пустым идеализмом», а быть ближе к «практической жизни». Некоторые молодые сердца не соглашались на ту «практическую жизнь», к которой их уговаривали «житейские мудрецы». Некоторым юношам сердце подсказывало, что путь идеализма, против которого их остерегали старшие, есть наиболее жизненный и заповеданный. На этой почве идеализма и «житейской мудрости» произошло множество семейных трагедий. Кто знает, в основе чего легли многие самоубийства – эти самые неразумные разрешения жизненных проблем. Ведь «житейские мудрецы» не остерегли вовремя молодежь от страшного заблуждения, приводившего даже к самоубийству. Когда же эти, постепенно обреченные, молодые люди спрашивали старших, будут ли в предполагаемой практической жизни исполняться Заповеди Добра? – старшие иногда махали рукой, кощунственно шепча – «все простится». И возникало между этим «все простится» и заповедями жизни какое-то неразрешимое противоречие. «Житейские мудрецы» готовы были обещать все, что угодно, лишь бы остеречь молодежь от идеализма. Когда же юношество погружалось в условную механическую жизнь, то даже книжники и фарисеи всплескивали руками. Но спрашивается, кто же повел молодежь на кулачный бой, на скачки, на развратные фильмы? Не сами ли «житейские мудрецы», со вздохом повторяя – «не обманешь – не продашь», усердно создавали разлагающие условия жизни. Когда-то говорилось: «Сегодня маленький компромисс, завтра маленький компромисс, а послезавтра – большой подлец».
Именно так, в самых маленьких компромиссах против светлого идеализма загрязнилось воображение и сознание. Темнота сознания начинала шептать о неприложимости в жизни Заповедей. Именно эта ехидна сомнения начинала уверять в ночной темноте, что Мир всего мира есть чистейшая утопия.
Но это моление когда-то и кем-то было создано не как отвлеченность, но именно как приказный призыв о возможной действительности. Великий ум знал, что Мир всего мира не только возможен, но и есть тот великий спасительный магнит, к которому рано или поздно пристанут корабли путников. На разных языках, в разных концах Земли повторяется и будет повторяться это священное моление. Неисповедимы пути, не людям предрешать, как, где и когда осуществится идеализм.
Действительно, пути непредрешимы. Но конечная цель остается единой. К этой цели поведут и все проявления того идеализма, так часто гонимого житейской премудростью. Также будет день, когда так называемый идеализм будет понят не только, как нечто самое практичное, но и как единственный путь в решении прочих житейских проблем. Тот же идеализм породит и стремление к честному, неограниченному знанию, как одной из самых спасительных пристаней.
Идеализм рассеет и суеверия и предрассудки, которые так убийственно омертвляют жизненные стремления человечества. Если бы кто-то собрал энциклопедию суеверий и предрассудков, то обнаружилась бы странная истина о том, насколько многие эти ехидны и до сих пор проживают даже среди мнящего себя просвещенным человечества. Но, поверх всех смут, добро поет о мире и благоволении. Никакие пушки, никакие взрывы не заглушат этих хоров. И, несмотря на все «житейские» ложно-мудрости, идеализм как учение блага все же останется самым быстро достигающим и самым обновляющим в жизни. Сказано: «Порождения ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Именно злосердечие будет нашептывать о том, что всякое благоволение недействительно и несвоевременно. Но будем твердо знать, что даже Мир всего мира не есть отвлеченность, но зависит лишь от доброжелательства и благоволения человечества. Потому всякое увещание по сохранению всего самого высокого и самого лучшего именно своевременно и облегчает пути кратчайшие.
Пусть благие символы, пусть самые благожелательные знамена развеваются над всем, чем жив дух человеческий.
25 декабря 1934 г.Пекин.Великое наследие
Почти сорок лет тому назад довелось обратить внимание на замечательные, по стилизации своей, скифские древности и родственные им в духе, так называвшиеся тогда, чудские бляшки. Тогда еще скифские древности понимались лишь как перетолкование греческого классического мира, а чудские древности относились к чему-то просто примитивному. Сам животнообразный романеск казался просто романтическим средневековьем.
Помню, как когда-то в одном из художественных журналов мы указали на необыкновенный стиль этих животных композиций, то один писатель Ф., считавший себя очень изысканно современным, посмеялся над этим, не находя нужным серьезно полюбоваться и обсудить такие замечательные находки.
С тех пор много воды утекло. Появилась целая наука о «зверином стиле». Самые замечательные ученые обратили внимание на эти наследия великих путников и отдали должное внимание этим необыкновенным стилизациям. Действительно, как это ни странно, но великие кочевые народы оставили по себе целое сокровище, так близкое художественной концепции нашей современности.
Думаю, что сейчас никакой писатель, мыслящий себя образованным, уже не станет смеяться над столь выразительными и богатыми в композиции бронзовыми фигурками. Наоборот, и современный художник, и археолог придут в одинаковое восхищение, наблюдая эти изысканнейшие формы животнообразного царства. От средневековых химер и бездонно вглубь, может быть, к самым пещерным рисункам, протянулось ожерелье богатого народного творчества. И в бронзе, и на скалах, и на остатках тканей народы, носившие столь разнообразные наименования, запечатлевают свою фантазию. С каждым годом все новые области присоединяются к этим открытиям. После Кавказа и Минусинска находки средней Азии, Гималаев, Тибета, а теперь Ордоса, Алашани и других монгольских местностей, дают новые и блестящие нахождения. Только что мы видели и интересную книгу Андерсона, а также блестящее собрание ордосских бронз, находящееся в Пекине у миссис Картер. Некоторые формы из этого разнообразного собрания перенесут нас и на Урал, и в Пермь, и в Минусинск, и в Луристан, оживляя пути великих насельников. Можно было вновь порадоваться, любуясь замечательными стилизациями горных козлов, оленей, леопардов, птиц, змей и других реальных и фантастических существ.
Видно, что это народное творчество было не только связано ритуальными надобностями. Легко можно усматривать широкую композиционность, входившую во все украшение жизни. Особенно это делается очевидным, когда Козловым были найдены в курганах Монголии остатки ткани с теми же богатыми животнообразными орнаментациями. Эта потребность разнообразного украшения жизни показывает, насколько эти народы носили в себе настоящий потенциал неистощимой фантазии. Ведь это не были греческие подделки под определенный стиль, это были народные, непосредственные выражения, изливавшиеся из эмбрионов творчества. Потому можно понять, почему и дальнейшее творчество, как тех же народов, так и их наследников, дало много незабываемых памятников искусства и большие страницы истории. Само передвижение подобных народов показывает ненасытную устремленность. От океана до океана, через все препоны и трудности, шли путники воображенного града. Тоска по светлому Китежу, неугомонное хождение в Беловодье, поиски Грааля, не от тех ли исканий, когда наблюдательный проникновенный взор восхищался богатствами царств природы, звал неутомимо вперед.
Было бы малым решение предположить, что эти путники механически выталкивались народностями, восстававшими позади. Правда, незабвенный Тверитянин восклицал – «И от всех наших бед уйдем в Индию» – куда он все-таки и ушел и, подкрепившись светом путешествия, вернулся назад, овеянный чудесною опытностью. Конечно, эти «беды» Тверитянина не были только бедами физическими. Конечно, его духовное начало, начало бедствовать от каких-то несоответствий. Сердце его вне узкопрактических соображений подсказало ему путь необычный и оздоровляющее движение. Этими поисками оздоровляющих движений, конечно, объясняются даже и движения целых народов. От движений народы ни уставали, ни ослабевали, но в расширении кругозора накопляли богатство воображения.
Действительно, воображение есть не что иное, как заработанный накопленный опыт. Чем больше изощрялся глаз и ум, тем многоцветнее загоралось творчество. Богатство так называемого звериного стиля именно является одним из неутомимо накопленных сокровищ. Как мы говорили, оно не только потребовано какими-то ритуалами. Оно широко разлилось по всей жизни, укрепляя и дальнейшее воображение к подвигам бранным и созидательным.
Химера Парижского собора, разве не вспоминает она о пространствах Ордоса, или о Тибетских нагорьях, или о безбрежных водных путях Сибири? Когда богатотворческая рука Алланов украшала храмы Владимира и Юрьева Польского, разве эти геральдические грифоны, львы и все узорчатые чудища не являлись как бы тамгою далеких Азиатских просторов. В этих взаимных напоминаниях звучат какие-то духовные ручательства, и никакие эпохи не изглаживают исконных путей.
Люди думают о каких-то новых определениях. В условном наименовании Евразии они хотят выразить еще одно богатство сочетаний. В геральдическом единороге вспоминается однорогая тибетская антилопа, и франкская Милюзина перенесет вас к Гандарвам Индии. При этом будет звучать богатство воображения, заработанное в героических поединках на далеких путях.
Многие названия несоответственны или незаслуженны. Так и само наименование звериного стиля внешне односторонне. Он звучит для вас не одними звериными формами, но именно своим творческим богатством и своеобразием стилизации. Какое-то другое, более существенное по глубине, определение заслуживает этот стиль, выросший из жизни, как чудесная сказка импровизации хожалого баяна. Звериность не будет внутренним признаком этого стиля. Его художественное благородство и богатство просят какое-то более выразительное определение. Наверное, такое определение, а может быть и не одно, будет найдено по мере накопления новых открытий.
В истории человечества поучительно наблюдать знаменательные волны открытий. Нельзя сказать, чтобы они зависели лишь от случайно возбужденного интереса. Вне человеческих случайностей, точно бы самые недра земли в какие-то сужденные сроки открывают тайники свои. Как бы случайно, а в сущности, может быть, логически, предуказанно, точно бы океанские волны, выбрасываются целые гряды знаменательно одноподобных находок. Так и теперь, после Венгрии, после Кавказа и Сибири, появились прекрасные находки Луристана среди Азиатских пространств, а теперь и Алашани и Ордоса и, вероятно, среди многих других, как бы предназначенных местностей.