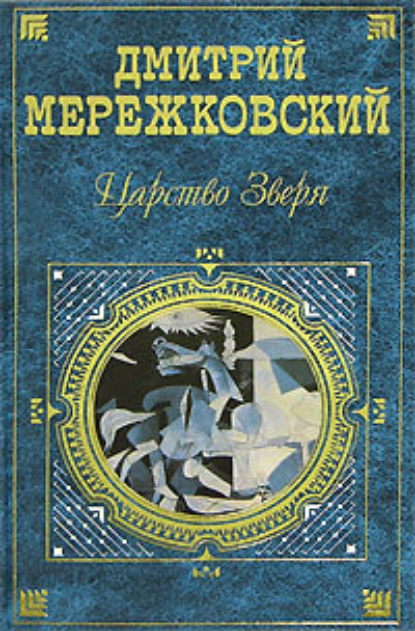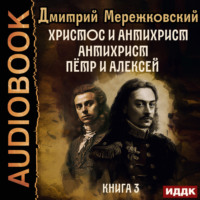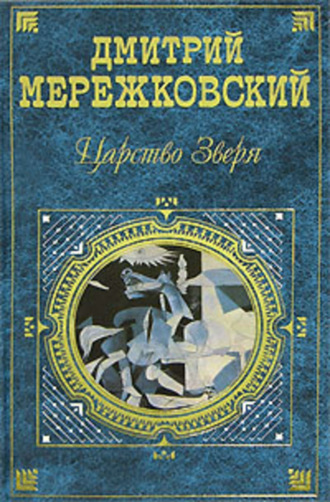 полная версия
полная версияАлександр Первый
– Не одного государя.
… … … … … … … … … …
Говорил так спокойно, как будто доказывал, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым; но в этом спокойствии, в бескровных словах о крови было что-то противоестественное.
Когда Пестель умолк, все невольно потупились и затаили дыхание. Наступила такая тишина, что слышно было, как нагоревшие свечи потрескивают, и сверчок за печкой поет уютную песенку. Тихая, душная тяжесть навалилась на всех.
– Не говоря об ужасе, каковой убийства сии произвести должны и сколь будут убийцы гнусны народу, – начал Трубецкой, как будто с усилием преодолевая молчание, – позволительно спросить, готова ли Россия к новому вещей порядку?
– Чем более продолжится порядок старый, тем менее готовы будем к новому. Между злом и добром, рабством и вольностью не может быть середины. А если мы не решили и этого, то о чем же говорить? – возразил Пестель, пожимая плечами.
Трубецкой хотел еще что-то сказать.
– Позвольте, господин председатель, изложить мысли мои по порядку, – перебил его Пестель.
– Просим вас о том, господин полковник!
Так же как в разговоре с Рылеевым, начал он «с Немврода». В речах его, всегда заранее обдуманных, была геометрия – ход мыслей от общего к частному.
– Происшествия тысяча восемьсот двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого годов, равно как предшествовавших и последовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько царств уничтоженных, столько переворотов совершенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями совершать оные. К тому же, имеет каждый век свой признак отличительный. Нынешний – ознаменован мыслями революционными: от одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая Англии и Турции, сих двух противоположностей, дух преобразования заставляет всюду умы клокотать…
Говорил книжно, иногда тяжелым канцелярским слогом, с неуклюжею заменою иностранных слов русскими, собственного изобретения: революция – превращение, тиранство – зловластье, республика – народоправление. «Я не люблю слов чужестранных», – признавался он.
«Планщиком» назвал Пушкин стихотворца Рылеева; Пестель в политике был тоже планщик. Но в отвлеченных планах горела воля, как в ледяных кристаллах – лунный огонь. Говорил, как власть имеющий, и очарование логики подобно было очарованию музыки или женской прелести.
Одни пленялись, другие сердились; иные же пленялись и сердились вместе. Но чувствовали все, так же как намедни Рылеев, что бывшее далекою мечтою становится близким, тяжким, грозным и ответственным.
Перейдя к разбору муравьевской конституции, не оставил в ней камня на камне. С неотразимою ясностью обнаружил сходство ее с древнею удельною системой, от которой едва не погибла Россия, – «ужасное вельможество и аристокрацию богатств».
– Сии аристокрации, главная препона благоденствия общего и главное утверждение зловластия, одним только республиканским образованием правления устранены быть могут.
Муравьев хотел произнести свою речь, когда Пестель выскажет все до конца, но сидел как на иголках и, наконец, не выдержал.
– Какая же аристокрация, помилуйте! Ни в одном государстве европейском не бывало, ни в Англии, ни даже в Америке, такой демокрации, каковая через выборы в нижнюю палату Русского Веча, по нашей конституции, имеет быть достигнута…
– У меня, сударь, имя не русское, – заговорил вдруг Пестель с едва заметною дрожью в голосе, – но в предназначение России я верю больше вашего. «Русскою Правдою» назвал я мою конституцию, понеже уповаю, что правда русская некогда будет всесветною, и что примут ее все народы европейские, доселе пребывающие в рабстве, хотя не столь явном, как наше, но, быть может, злейшем, ибо неравенство имуществ есть рабство злейшее. Россия освободится первая. От совершенного рабства к совершенной свободе – таков наш путь. Ничего не имея, мы должны приобрести все, а иначе игра не стоит свеч…
– Браво, браво, Пестель! Хорошо сказано! Или все, или ничего! Да здравствует «Русская Правда»! Да здравствует революция всесветная! – послышались рукоплескания и возгласы.
Если бы он остановился вовремя, то увлек бы всех, и победа была бы за ним. Но его самого влекла беспощадная логика, посылка за посылкой, вывод за выводом, – и остановиться он уже не мог. В ледяных кристаллах разгорался лунный огонь, – совершенное равенство, тождество, единообразие в живых громадах человеческих.
– Равенство всех и каждого, наибольшее благоденствие наибольшего числа людей, – такова цель устройства гражданского. Истина сия столь же ясна, как всякая истина математическая, никакого доказательства не требующая и в самой теореме всю ясность свою сохраняющая. А поелику из оного явствует, что все люди должны быть равны, то всякое постановление, равенству противное, есть нестерпимое зловластие, уничтожению подлежащее. Да не содержит в себе новый порядок нижé[37] тени старого…
Математическое равенство, как бритва, брило до крови; как острый серп – колосья – срезывало, скашивало головы, чтоб подвести всех под общий уровень.
– Всякое различие состояний и званий прекращается; все титулы и самое имя дворянина истребляется; купеческое и мещанское сословие упраздняются; все народности от права отдельных племен отрекаются, и даже имена оных, кроме единого, великороссийского, уничтожаются…
Все резче и резче режущие взмахи бритвы. «Уничтожается», «упраздняется» – в словах этих слышался стук топора в гильотине. Но очарование логики, исполинских ледяных кристаллов с лунным огнем подобно было очарованию музыки. Жутко и сладко, как в волшебном сне – в видении мира нездешнего. Града грядущего, из драгоценных камней построенного Великим Планщиком вечности.
– Когда же все различия состояний, имущества и племен уничтожатся, то граждане по волостям распределятся, дабы существование, образование и управление дать всему единообразное – и все во всем равны да будут совершенным равенством, – заключил он общий план и перешел к подробностям.
Цензура печати строжайшая; тайная полиция со шпионами из людей непорочной добродетели; свобода совести сомнительная: православная церковь объявлялась господствующей, а два миллиона русских и польских евреев изгоняются из России, дабы основать иудейское царство на берегах Малой Азии.
Слушатели как будто просыпались от очарованного сна; сначала переглядывались молча, затем послышались насмешливые шепоты, и, наконец, негодующие возгласы.
– Да это хуже Аракчеева!
– Военные поселения, а не республика!
– Мундир бы завести для всех россиян одинаковый, с двумя параллельными шнурами в знак равенства!
– Не русская правда, а немецкая!
– Самодержавие злейшее!
А Пестель, ничего не видя и не слыша, продолжал говорить, как будто наедине с собою.
Голицын вглядывался в него, и маленький человек, со спокойным лицом, в треуголке и сером плаще, вспоминался ему на высотах Шевардинского редута, в пороховом дыму и в огне, над грудами убитых и раненых, ходивший взад и вперед шагами такими тяжелыми, что, казалось, не от пушечных выстрелов, а от этих шагов дрожит и стонет земля. Маленький человек похож был на свою собственную куклу, автомат в музее восковых фигур. Неземная тяжесть, роковая одержимость. Как будто не сам он двигается, а кто-то двигает, дергает его, как петрушку за ниточку.
Пестель вынул из портфеля перечерченную военную карту Российской империи, разложил ее на столе и начал объяснять разделение областей будущей Российской республики, с новою столицею, соединяющей Европу с Азией, Нижним Новгородом, под названием Владимир, в честь св. Владимира. Карта приложена была к «Русской Правде».
– Неубитого медведя шкуру делим, – заметил кто-то.
– А Польша где?
– Здесь, – указал Пестель на карту.
– Как здесь? За рубежом?
– Да, отделена от России.
– Не знаю, как вы, господа, – вдруг побледнел и вскочил Рылеев, – а я никому не позволю разыгрывать в кости судьбу моей родины!
Повскакали и другие, закричали в ярости:
– Не позволим! Не позволим!
– Вот они, Южные, вот, куда гнут!
– Кромсать Россию! Да черт вас дери с вашею республикою!
– Предатели!
– Враги отечества!
Неистовый Кюхля схватил карту и разорвал ее пополам.
Председатель изо всей силы звонил в колокольчик, но долго еще шум не унимался.
– Я полагаю, господин полковник, что отторжение столь коренных областей, как Польша, от державы Российской многим не понравится, – начал было Трубецкой примирительно, когда стало потише.
– А я полагаю, господин председатель, что мы исповедуем либеральные взгляды не для того, чтобы нравиться людям, из коих большинство глупцы, – усмехнулся Пестель так высокомерно, что даже кротчайшего Трубецкого передернуло.
– А главное, хамы все; не от огня или потопа, а от хамства погибнет земля! – выпалил вдруг доселе безмолвный Каховский и опять замолчал на весь вечер.
– С одним не могу никак согласиться, – заключил Рылеев: – в республике вашей смертная казнь уничтожается, а вам без нее не обойтись, гильотина понадобится, да еще как: нам же первым головы срубите..
– Не гильотина, а пестелина! – крикнул Бестужев.
Одоевский закорчился и закашлялся от смеха так, что должен был выйти в другую комнату.
Голицыну казалось, что все, навалившись кучею, бьют спящего или пьяного.
Заранее предчувствуя победу, Муравьев попросил слова. Заговорил – и с отрадой почувствовали все, как вещи, сдвинутые Пестелем, возвращаются на старые места; опять становится все нетяжким, негрозным, неответственным; режущая бритва окутывалась ватою; ледяные кристаллы таяли и превращались в теплую воду.
Муравьев доказывал необходимость медленного действия.
– В самой натуре постепенное течение времени дает жизнь, рост и зрелость всему; крупные же и быстрые события производят вихри, бури, землетрясения и разрушения. Точно так же народу, пребывшему века без сознания вольности гражданской, дарование оной располагаемо должно быть с постепенностью. Поставлять же внезапно и насильственно, на место правления законного, самовластие временных диктаторов, – людей, никому неведомых, есть дело безрассудное. Уверены будучи в том, – заключил оратор, – что Россия не может быть иначе управляема, как монархом законным и наследственным, отвергает Северное Общество всякую мысль о республиканском образе правления и единственной целью своей полагает конституцию монархическую.
– Браво, браво, Муравьев! – закричали и захлопали ему те же, кто давеча кричал и хлопал Пестелю.
– Не бывать республике!
– Да здравствует монархия!
– Да здравствует конституция Северная!
Голицын давно уже видел, как лицо Пестеля бледнело, искажалось, и в тускло-черных глазах загорался тяжелый, припадочный блеск. Вдруг ударил он изо всей силы кулаком по столу.
– Так будет же республика!
Все на минуту притихли. Но тотчас же опять поднялся неистовый крик:
– Долой диктаторов!
– Долой Пестеля!
– Второго Бонапарта!
– Второго самодержца!
– Павла Второго!
Пестель, как будто просыпаясь, обвел всех медленным взором.
– Господа, – заговорил он изменившимся голосом, с тихим и грустным недоумением в потухших глазах, – я ни на какие личности отвечать не буду. Я пришел сюда не с тем. Ежели обидел кого, прошу извинить… Но стыдно будет тому, кто подозревает личные виды. Последствие покажет, что таковых не было. Впрочем, если я один мешаю всему, я готов удалиться из Общества.
Остановился, помолчал и вяло, рассеянно, точно о другом думая, потер лоб рукой:
– Я хотел еще что-то… Ну, да все равно…
В лице и в голосе его что-то было такое простое, правдивое и печальное, что все на мгновение опомнились и, так же как давеча, затаили дыхание, потупились, не глядя друг на друга. И тихая душная тяжесть опять навалилась на всех. Почувствовали, что не надо было говорить того, что говорили, и что не в нем, а в самих себе они что-то унизили.
Голицын встал и подошел к Пестелю.
– Я хочу вам сказать при всех, Павел Иванович! Со многим я не согласен, но главное верно у вас, и я того же мнения до корня: низвержение династии, провозглашение республики. Что бы ни говорили, – это так, и без этого ничего не будет, ничего не будет!
Пестель посмотрел на Голицына с удивлением, как будто все еще не понимая, но вдруг улыбнулся простодушною улыбкою, той же самою, с которой спрашивал намедни Рылеева о персидской шали для сестры и от которой лицо его сразу молодело, хорошело до неузнаваемости.
– Спасибо вам… Я не знаю вашего имени.
– Князь Валерьян Михайлович Голицын.
– Ну, спасибо, спасибо вам, князь! – сказал, крепко, до боли, пожимая ему руку.
Голицын заглянул в глаза Пестелю и тоже улыбнулся, – почувствовал, что может полюбить его, как брата. Но в то же мгновение увидел глаза умирающей девочки.
Пестель, собираясь уходить, складывал в портфель бумаги, листки «Русской Правды» и половинки разорванной карты Российской республики, – верно, дома склеит тщательно. Никто его не удерживал.
Зеленое сукно, взятое напрокат из Русско-Американской Компании, сняли со стола, чтобы не запачкать, и покрыли стол белою скатертью. Потушили свечи, зажгли ананасовый пунш; сахарная голова запылала в голубых волнах спиртового пламени; захлопали пробки, полилось шампанское. Пир вскладчину: с каждого гостя по двадцати рублей ассигнациями.
От грозной и душной Пестелевой тяжести с наслаждением возвращались к обыденной легкости, как будто, проснувшись, потягивались, расправляли члены и торопились наверстать упущенное. Говорили о последнем параде, о чинах и производстве, о танцовщице Истоминой и закулисных шалостях гвардейцев, о Семеновой, которая провалилась намедни в Лобановской «Федре»;[38] спорили о цыганках, Фешке и Малярке, кто лучше поет, – почти с таким же увлечением, как только что о республике и монархии.
Чимбиряк-чимбиряк-чимбиряшечки!С голубыми вы глазами, мои душечки! —пел Бестужев, подражая Фешке.
Затянули хором:
Отечество наше страдаетПод игом твоим, о злодей!… … …… … …Свобода! Свобода!Ты царствуй над нами…Кюхля пошел плясать казачка и растянулся при общем хохоте. Якубович произнес речь:
– Господа, я не хочу принадлежать ни к каким тайным обществам, чтобы не плясать по чужой дудке. По моему мнению, один человек решительный полезнее всех обществ. Я жестоко оскорблен государем. Разве вы не знаете, зачем я проживаю в Петербурге? Разве не написана на лбу моем кровавая причина?
Сорвал повязку с головы и, вынув из бокового кармана полуистлевший листок, штабный приказ по гвардии, с чином капитана вместо полковника, помахал над головой:
– Вот пилюля, которую восемь лет ношу у ретивого; восемь лет жажду мщения. Ему не ускользнуть от меня… Тогда пользуйтесь случаем, делайте, что хотите, созывайте ваш Великий Собор и дурачьтесь досыта!
Выслушали молча и заговорили тотчас о другом: где бы провести остаток ночи, в Красный ли кабачок закатиться на тройках, или по соседству в Фонарный, к «дамочкам». Но говорили уже вяло, со скукою; сразу устали, опьянели и отяжелели. Веселье потухало, как бледно-голубое пламя пунша в бледно-зеленой тусклости утра.
Затянули еще раз на прощанье, но тоже со скукою:
Отечество наше страдает…… … … …И опять:
Чимбиряк-чимбиряк-чимбиряшечки!С голубыми вы глазами, мои душечки!Один в кабинете, забившись в угол дивана и закрыв лицо руками, сидел Одоевский. Голицын подошел к нему. Тот услышал и отнял руки от лица.
– А знаете, князь, – проговорил он, и Голицыну казалось, что слезы у него на глазах, – ведь Пестель-то прав: стыдно, Боже мой, как стыдно и гадко все! Ничего не будет. Болтуны несчастные: наделала синица славы, а моря не зажгла…
Голицын молча простился и вышел на улицу.
Светло, тихо, пусто. Внизу – опрокинутое в Мойке белое небо, и вверху – оно же, белое, слепое, как остеклевший глаз покойника; серая каланча над серою съезжею; у полосатой будки сонный будочник; грохочущие телеги со смрадными бочками; ругань двух пьяных гуляк у трактира с красным фонариком и гул барабана вдали, – должно быть, на гауптвахте бьют зорю.
На углу Вознесенской нагнал его Рылеев. Долго шли молча.
– Ну что, как? – начал было Голицын, но тот замахал на него руками:
– Да уж не говорите. Скверно…
И опять молча пошли по светлой, тихой и пустой, точно вымершей, улице с белым небом вверху.
Вдруг оба вздрогнули. Могучий звук прокатился одиноко в мертвой тишине, задрожал, как задетая у самого уха струна, и медленно замер. Первый, второй, третий – и весь воздух наполнился медленно-мерными медными гулами. У Вознесения благовестили к заутрене.
Остановились, прислушались.
– Да, ничего не будет, ничего не сделаем, – заговорил Рылеев, как будто повторяя то, что говорил благовест, – а все-таки надо начать! Раздастся глас свободы и разбудит спящих…
Говорил, как всегда, высокопарно, торжественно; но не в словах, а в лице и голосе его что-то было такое же простое, правдивое, как давеча у Пестеля.
Голицын положил ему руки на плечи и заглянул в лицо, бледное в бледной тусклости утра, точно мертвое.
– Да, начать надо, – произнес и он, как бы отвечая на то, о чем спрашивал колокол. – Хотя вы и не верите в Бога, а помоги вам Бог!
Обнялись и поцеловались молча.
Когда Рылеев ушел, Голицын долго еще слушал благовест, потом снял шляпу и перекрестился с молитвою, с которой благословила его Софья:
«Сохрани, помоги, помилуй нас всех, Господи! Спаси, Матерь Пречистая!»
На следующий день у Полицейского моста на Невском встретил он Пестеля; лица не видал – шел сзади, – но узнал тотчас же. У Пестеля под мышкою был сверток, должно быть, персидская шаль, подарок сестре. Нагнав его, Голицын пошел рядом; но Пестель не замечал его и продолжал идти, не глядя по сторонам. Лицо безжизненное, взор невидящий, шаг размеренный: кажется, будь на дороге яма, – не остановился бы, как пущенный в ход автомат.
Солнце пекло уже по-летнему; тощие липки бульвара, едва распустившиеся, кидали слабую тень. Пестель присел на скамейку, снял фуражку и вытер платком пот со лба; все еще не узнавал или не видел Голицына, присевшего рядом.
– Здравствуйте, Павел Иванович!
– Ах, Валерьян… – видимо, с трудом вспомнил он имя, – Валерьян Михайлович, извините, я очень рассеян, никого не узнаю…
Голицын заговорил о вчерашнем, но Пестель едва слушал и отвечал неохотно, как будто думал о другом, не рад был встрече и о своей вчерашней благодарности забыл.
– А нехорошо у вас в Петербурге, – вдруг, среди разговора, оглянулся он и поморщился: – жара, пыль, вонь… Я, впрочем, весны не люблю. То ли дело осень, особенно в деревне, самая глухая осень в самой глухой деревне. Читали вы «Утехи меланхолии?»
– Нет, что это?
– Книжечка такая, старинная. Мне нравится. Давеча по Невскому шел, все вспоминал. Погодите, как это? «Счастливый уголок безмятежности, уединенное сельцо, мирное лоно твое в шуме осенних бурь нежит скорбный дух мой; любезная пустынька питает меланхолию…» Не правда ли, чувствительно? Глупо, но чувствительно. Точно перевод с немецкого. Потому, должно быть, мне и нравится…
– А к памятнику Петра пройти как? – спросил он, вставая.
– Тут недалеко. Я проведу вас, если позволите.
Пошли вместе. По дороге Пестель опять вычитывал ему из «Утех меланхолии»:
– «Среди октябрьских непогод в дико-густейшей мгле, при порывистых вихрях, приветствуемый мерцанием дружественной Цинфии». Что такое Цинфия? Из мифологии, что ли? А дальше не помню…
– Как вы и это-то запомнили? – рассмеялся Голицын.
– С матушкой читал, давно еще, мальчиком, а потом с сестрой. Бывало, в осенние сумерки, все ходим по березовой аллее над озером, – у нас большое озеро в парке, оттуда вид прекрасный, – желтые листья под ногами шуршат, и читаем Ламартина, Шатобриана или вот эту самую меланхолию.
– Вы и стихи любите?
– Нет, стихов не люблю… впрочем, не знаю, мало читал, только вот с сестрою. Одному некогда и скучно.
– А Пушкина?
– И Пушкина мало знаю.
– Вы, кажется, встречались?
– Да, в Кишиневе раз, давно. Всю ночь проговорили о политике и о бессмертии души.
– Ну и что же?
– Ничего. Как всегда, каждый при своем остался. Он доказывал, что Бога и бессмертия нет, а я ему, что этого доказать нельзя; тут все надвое: по сердцу – Бога нет, а по разуму – есть. Mon coeur est materialiste, mais ma raison s’y réfuse.[39]
– Наоборот, казалось бы? – удивился Голицын.
– Нет, у меня так, – немного нахмурился Пестель, и в глазах его появилось выражение, которое и раньше заметил Голицын, как будто перед носом любопытного гостя захлопнулась дверь во внутренние комнаты хозяина; и тотчас заговорил о другом, рассказал, как Пушкин хотел к ним в Общество, да его нельзя – ненадежен.
По новому Адмиралтейскому бульвару вышли на Сенатскую площадь, к памятнику Петра.
Пестель обошел его, разглядывая с простодушным любопытством, потом остановился, приложил лицо к решетке и, глядя в лицо изваяния, как в лицо живого человека, долго молчал, словно забыл о собеседнике; наконец сказал по-французски, шепотом:
– А ведь тут пропасть: если конь опустит копыто, Всадник полетит к черту…
– Да, костей не соберет.
– И мы с ним.
– Разве мы – с ним?
– А где же?
– Вот змея под копытами лошади, – крамола, революция…
– Вы думаете? А Пушкин говорит, что с него-то, – кивнул Пестель на памятник, – с него и началась революция в России…
– И самодержавие с него же, – заметил Голицын.
– Да, крайности сходятся… Ну, так как же: мы-то с ним или против него? – опять, помолчав, спросил Пестель.
– Не знаю, – усмехнулся Голицын, – не знаю, как мы, Павел Иванович, а вы, наверное, с ним.
– Почему я?.. – проговорил Пестель, но уж опять рассеянно, как будто о другом думая; дверь во внутренние комнаты захлопнулась, и не дожидаясь ответа, внезапно простился, кликнул извозчика и уехал.
Голицын, оставшись один, долго еще вглядывался с тем же вопросом в лицо Медного Всадника: против него или с ним?
Ответа не было, и, наконец, решил: «А все-таки надо начать – с ним или против».
Часть третья
Глава первая
Фотий в гробу полеживал с приятностью.
В доме графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской на Дворцовой набережной, где гостил по целым месяцам, он устроил себе подземную келью. В темный подвал, освещаемый только огнями неугасимых лампад, вела узкая лестница; пол мраморный, черными и белыми шашками; иконостас, блистающий золотом и драгоценными каменьями. Он любил их: в детской простоте, не зная цены деньгам, принимал в подарок от Анны блюдо рубинов или яхонтов, как блюдо земляники. Посередине кельи – гроб. Фотий спал в нем ночью, а иногда и днем отдыхал.
Анна сперва ужасалась, а потом привыкла, и гроб стал ей казаться диваном, тем более, что надоевшую черную обивку заменил он светлою, серебряным глазетом снаружи и белым атласом внутри, «дабы гроб светел был и приятен». Когда в одеянии подобносхимническом, нарочно сшитом по его заказу, как святые на иконах пишутся, лежал он в этом веселом гробу, Анна любовалась на него с умилением:
– Ах, отец, отец, как он мил!
Весь день провел Фотий в хлопотах и разъездах по делу Голицына; устал, измучился; вернувшись домой, завалился в гроб отдыхать. Выпить бы горячего укропника – укропник пил вместо чая, зелья бесовского. Но никто, кроме Анны, не умел варить, а ее дома не было, уехала с визитами.
Фотий сердился, ругался. Держал ее в строгости, помыкал, как последнею дворовою девкою. А все-таки с приятностью полеживал в гробу своем, благодушествовал, вспоминая последнее свидание митрополита с Аракчеевым.
Аракчеев исполнил обещание, данное государю: поехал к митрополиту и сделал попытку помирить его с князем Голицыным, но ничего не вышло. Сняв с головы белый клобук, митрополит бросил его на стол:
– Граф, донеси царю, что видишь и слышишь. Вот ему клобук мой. Я более митрополитом быть не хочу, с князем Голицыным не могу служить, как явным врагом церкви, престола и отечества!
«Аракчеев смотрел на сие, как на вещь редкую», – вспоминал впоследствии Фотий. Воистину, редкая вещь в России после Петра I, – белый клобук, венец православия, спорящий с венцом самодержавия.
Митрополита Серафима Фотий называл «мокрою курицею». Однажды, готовясь произнести проповедь, в присутствии императора Павла, преосвященный так оробел, что не мог произнести ни слова и должен был удалиться в алтарь. А намедни, собираясь в Зимний дворец по делу Голицына, трижды входил и трижды выходил из кареты; наконец Фотий захлопнул дверцы и крикнул кучеру: «Ступай!» А Магницкий поехал сзади на дрожках, и когда замечал, что кучер, по приказанию владыки, заворачивает в сторону, приказывал от себя ехать прямо во дворец. Вернулся владыка домой, весь мокрый от пота, «как бы из водопада был облит, – по слову Фотия: – такой у него был пот от страха царева».