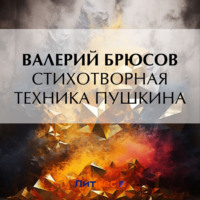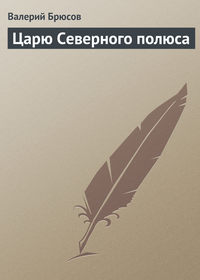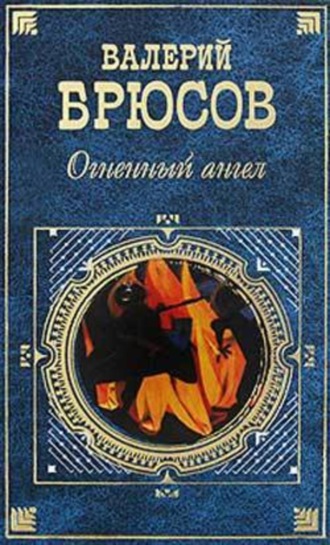 полная версия
полная версияОгненный ангел (сборник)
Говоря так, Аркадий верил, что нашел верный тон для объяснения с Кузьмой. «С купцом надо и говорить по-купечески», – быстро сообразил, он. Но Кузьма слушал откровенные заявления Аркадия с чувством настоящего омерзения. Кузьме казалось, что за те полчаса, что он пробыл в этой комнате, он сразу возмужал, из наивного мальчика превратился в зрелого человека, знающего жизнь. Словно какое-то откровение сошло на него. И вся школа плутней и обманов, которую с детства проходил он в лавке отца, не научила его тому презрению к людям, как этот торг Аркадия.
Вдруг опять встав, Кузьма объявил:
– Будь покоен, Аркадий! Тебе-то папенька копейки не даст. Коли ты на это рассчитывал, так распростись с радужными мечтами. Шиш тебе папенька покажет, вот что!
Кузьмам нарочно говорил грубо и, пока Аркадий смотрел на него в полном недоумении, добавил:
– А теперь кликни Дашу. Мы сейчас домой уедем.
– Я тебя не понимаю, Кузьма, – возразил Аркадий. – Ты только что говорил другое. Притом я не могу позволить тебе увезти Дарью Ильинишну. Она отдалась под мое покровительство. Как же я позволю увезти ее туда, где ее может ждать…
– Что бы ее там ни ждало, – перебил Кузьма, – все ей лучше будет, нежели с таким…
Кузьма запнулся, но тотчас докончил: "…прохвостом, как ты!»
Аркадий побледнел от оскорбления и невольно оглянулся кругом, словно желая убедиться, что в комнате более никого нет. Оправившись, он начал было с достоинством говорить о том, что неблагородно со стороны Кузьмы пользоваться выгодами своего положения, но тот опять перебил его:
– Кликни мне Дашу, а не то я сам пойду ее искать.
Аркадий поколебался минуту, но потом сказал себе: «В конце концов, всего лучше со всем этим дурацким делом развязаться! Черт их всех побери! Пусть увозит! В сущности, какое мне дело, что будет дальше!»
Он повернулся было, чтобы идти за Дашей, но остановился, несколько приблизился к Кузьме и сказал, понизив голос:
– Между прочим, заверяю тебя, что между нами ничего такого не было. Parole d’honneur[298]. Я уступил Дарье Ильинишне свою спальню, а сам провел ночь на диване. Ты веришь?
Кузьма не удостоил его ответа, и Аркадий вышел.
Несколько минут Кузьма опять ходил взад и вперед по чистенькой приемной, убранной с немецкой аккуратностью, с лилиями на окошках за кисейными занавесками, с вышитыми подставочками под графином и синими вазами с сухой травой на столах. Наконец вошла Даша, заплаканная, пряча лицо. Кузьма сказал ей коротко:
– Даша, едем домой.
Даша заплакала пуще, но не возражала. Она была уже в шубке. Кузьма быстро накинул свое пальто. С Аркадием он не простился. Они вышли, и Кузьма взял извозчика.
Даша спросила только:
– Дяденька знают?
– Нет, папенька ничего не знает, – ответил Кузьма, – а уж с маменькой толковать придется: держись!
Больше они не обменялись ни словом во всю дорогу.
XI
На другой день в лавке, в тот час, когда Влас Терентьевич по обыкновению «баловался чайком», Кузьма получил письмо. Его принес мальчишка из банка, получивший строгий наказ – отдать письмо только самому Кузьме, «в собственные руки». Писал Аркадий:
«Любезный Кузьма! Обдумав наш с тобой вчерашний разговор, я пришел к выводу, что мне следует высказаться решительно, дабы не подавать повода более ни к каким недоразумениям. Я душевно уважаю Дарию Ильинишну, желаю ей всяческого благополучия и всегда готов содействовать ей, как в деле ее духовного развития, так и на всех поприщах жизни, на какие она пожелает вступить. Эту мою готовность я неоднократно и выражал в моих беседах с многоуважаемой Дарией Ильинишной, при наших с ней случайных встречах. Весьма сожалею, если некоторые мои выражения были истолкованы не в том смысле, какой я им придавал сам, и почитаю долгом честного человека заявить, что со своими услугами я отнюдь не намерен навязываться. Если мое содействие может быть полезно для многоуважаемой Дарии Ильинишны, она может располагать мною вполне по своему усмотрению. В противном случае я готов, дабы предотвратить всякую возможность дальнейших недоразумений, немедленно устраниться с дороги Дарии Ильинишны и даю свое честное слово, что ни в какой мере не явлюсь для нее помехой при браке, в который она намеревается вступить, как я о том известился. Ты достаточно знаешь, что на мое слово можно положиться твердо, а посему, любезный друг Кузьма, я рассчитываю, что ты поймешь всю чистоту моих намерений и оценишь всю прямоту моих слов, а засим остаюсь готовый к услугам – Аркадий Липецкий».
Прочтя это письмо, Кузьма не то подумал, не то процедил сквозь зубы:
– Ну нет, содействие твое, голубчик, ей полезно не будет!
Кузьма спрятал письмо в карман и в угрюмой задумчивости продолжал осматривать все, что его окружало.
Он был в лавке один. Отец – у Михалыча. Молодцы полдничали в полутемном проходе, ведшем из лавки в хозяйскую, присев на пустые ящики: пили чай или, быть может, тайком «сорокоушку». Кипы товара, как обычно, высились у задней стены, словно Кавказские горы. В окно был виден грязный двор и непомерно большая вывеска: «Водогрейня». Флор Никитыч опять стоял у противоположного окна и барабанил пальцами по стеклу. Ничего не переменилось кругом; мир, знакомый Кузьме с детства, продолжал свое медленное и тусклое существование. Лишь сам Кузьма сознавал себя иным, чем два дня назад.
О Аркадии Кузьме не хотелось и думать. Горечь разочарования в человеке, которым он так долго восхищался, мучила нестерпимо. «Себялюбец, пустослов, франт, ловелас, трус», – записал об нем Кузьма в своем «Журнале» и потом приписал еще: «и подлец!» Но тем более хотелось думать о Даше и о самом себе. При некоторых воспоминаниях Кузьма зажмуривал глаза, словно от телесной боли.
Орина Ниловна, несмотря на свои годы и постоянную приниженность, обошлась с Дашей, при ее водворении домой, сурово: она «отхлестала» Дашу по щекам. И Кузьма не вступился за сестру, стерпел: надо было удовлетворить маменьку, чтобы она осталась соучастницей заговора и ничего не рассказала отцу. Даша тоже стерпела побои и даже плакала не больше обычного. Она вообще была как бы не совсем живой, обмершей. Что у нее произошло с Аркадием в ту ночь, она так и не рассказала брату. Когда он участливо начал расспрашивать, Даша ответила настойчиво: «Не поминай, братик, его: я об этом человеке больше ничего слышать не хочу!» Видно, вовремя пришел Кузьма за сестрой!
«Бедная ты! Глупая ты! – думал Кузьма. – Развесила уши на россказни этого щеголя! Поверила, что и взаправду ты ему нужна! Никому мы не нужны, какое кому до нас дело! Пусть пропадаем, тонем, вязнем в нашем болоте: туда нам и дорога. А ежели якшаются с нами, то либо затем, чтоб взаймы попросить, либо потому, что лицом девушка приглянулась. Все у них то же, что и у нас: только у нас – начистоту, торгуются прямо за каждую полушку, а те видимость делают, слова разные говорят, о высоких материях рассуждают. Дурак я был, что в правду всего этого верил. Нет, Кузьма! Покорилась Дашка, покорись и ты! Тяни лямку, угодничай папеньке, обдувай покупателей, нет тебе никуда исходу. Жди, покуда сам хозяином станешь, да к той поре, пожалуй, и у самого за душой ничего, кроме алтына, не останется!»
Кузьме вспомнились его собственные сатирические стихи:
Мне бечевой лишь торговатьДа подводить в счетах итоги!– На построение погорелого храма, во имя Илии пророка! – тоненьким голоском пропищала монашка, приоткрывая дверь.
– Бог подаст! – недовольно отозвался Кузьма, которого оторвали от его дум. Но монашка уже втиснулась в лавку и обшаривала ее глазами, ища, чем бы поживиться.
– Нам вот бечевочку надобно б, не соблаговолите ли, благодетель, по усердию к делу божиему? – пищала монашка, быстро перебирая мотки бечевы, что лежали в картонах.
Неохотно Кузьма пошел отпускать бечеву: отказывать в таких просьбах было не принято. Едва захлопнул он дверь за монашкой, опять задребезжал самодельный колокольчик, и ввалился в лавку малый из соседней мелочной:
– Шесть вязки, да поскорее. Да только, чтобы не гнилой, как позапрошлый раз. Почтение Кузьме Власичу.
Кузьма кликнул молодца отпустить вязки. Но потом появился приказчик от Борзовых получить по счетику; потом – представитель торгового дома «Петров и сын», что в Рыбинске, узнать, отправлен ли заказанный товар; затем – еще кто-то. Завертелось колесо повседневной работы, при которой каждому посетителю лавки надо было угодить, с одним посмеяться, с другим поскорбеть о застое в делах, у третьего осведомиться, как поживает супруга. Влас Терентьевич наказывал строго, чтобы покупателей «обхаживали» и «ублажали». «Не то дорого, – говорил он, – что ты мальцу, скажем, продашь на полтину, а то, что, ежели ты его улестишь, он, глядь-ан, и по втору завернет да на сотнягу прикажет». И Кузьма, по привычке, приобретенной сызмалолетства, «обхаживал» и «ублажал» приходивших, выхвалял товар и соболезновал жалобам на «плохие дела». «Тяни, Кузьма, лямку!» – повторял он себе. Вскорости вернулся и отец, довольный какой-то удачей, расспросил об том, что без него было, заглянул в книги, похвалил сына:
– Валяй, Кузьма! Мы эту зиму, того, може, оборот-то тысяч на четыреста сделаем. Вот как! Пусть знают Русаковых! Помру я, будешь ты купец первейший в городе. Тебе, оно, будет почет ото всех, кланяться будут. «Кто идет?» – Кузьма Власич Русаков. – «А», – скажут. Токмо одно: баловства свои оставь, книжки там разные. Не к лицу это нам…
«Завел волынку», – уныло подумал Кузьма, слушая наскучившие поучения. Но тут же мысленно сравнил отца с Аркадием и сказал себе: «А все ж папенька хоть и купец, хоть и учит меня обставлять покупателей, а куда благороднее этого крикуна. У папеньки цель – нажить, он этого и не скрывает. А тот тоже на Дашино приданое облизывался, а делал вид, что Прудона проповедует».
А Даша в это время подрубляла полотенца, которые давали ей в приданое, и тоже тупо слушала проповедь, которую говорила ей сидевшая рядом Орина Ниловна. После побега Дашу держали как бы под домашним арестом, и тетенька не отпускала ее от себя ни на шаг. Усадив Дашу работать, она сама поместилась тут же со спицами, которыми вязала варежки, и монотонным голосом поучала племянницу:
– Ничего, девка, стерпится – слюбится. Мне тож не легко было за самого-от идти. Почитай, неделю ревмя ревела: знала, что крут. Да и в жисти мало я разве вынесла? Ох, девка, всего бывало! По молодости-то сам на баб падок был. Что я в те поры терпела, один господь ведает. Ну, и бивал тоже, случалось, как погорячее был. Сама знаешь, из бедных меня взял, противу отца, покойного Терентия Кузьмича, пошел (царство ему небесное), ну, и вымещал, значит, на мне, что не принесла ему ничего. А теперь, глянь-ка, душа в душу живем. Дом – полная чаша. Все у нас степенно. Сам-от не пьет, в церкву божию ходит, нам от других почет. Поживи, и тебе то ж будет. Оно, старенек Степан Флорыч-то, робята у него, да не тужи: брюзглый он, хлибкий – вдовой останешься, тут тебе вся твоя воля.
Доброжелательная воркотня лилась, как струйка воды из источника, ровно, безостановочно: Орина Ниловна говорила, не делая ударений на словах, словно бы все имели значение равное или были безразличны. Даша проворно двигала иголкой, наклонив заплаканное лицо к самому полотну. Пахло лампадным маслом, воском, камфорой и соленьями. Мебель «под красное дерево», в стиле «Николая I», лоснилась. По крашеному полу были простелены чистые половики. Кругом был уют установившейся жизни, однообразной, тусклой, предопределяемой обычаями дедов, – жизни, выставляющей на вид всем огромные образницы, перед которыми денно и нощно теплятся неугасимые лампады, и кроющей в своих недрах, в задних комнатах, и привычный домашний разврат «самого со стряпухой», и столь же привычные сцены битья жены, и беспредельное одиночество женщин, для которых муж – только властный «хозяин», требующий, чтобы его «ублажали». И казалось, что прочно заложены устои этой жизни, что никакие внешние бури, никакие века не свалят их и не откроют внутрь доступа для свежего воздуха.
XII
В «Журнале» Кузьмы много дней последними строками оставалось его суждение о Аркадии и ничего не появлялось после красноречивого слова, выведенного французскими буквами: «i podletz!» Кузьма нарушил свое правило – писать в дневнике ежедневно – и долгое время не брался за него. Наконец, уже поздним ноябрем, в «Журнале» оказались записанными еще две страницы, которые должны были служить заключением всей тетрадке. Кузьма так и озаглавил их «Epilog». Вот что стояло в этом «Эпилоге»: «Не хочу я, чтобы сей мой дневник кончался ругательством, и потому пишу эпилог, или заключение. А больше писать в этой тетради не буду, потому что она мне омерзела. Противно мне взять ее в руки, так как много в ней написано лжи, вольной и невольной. Ложь и глупость все, что я здесь писал про Аркадия, и правда только последнее слово: подлец и есть. Он так перетрусил, что тотчас и из Москвы уехал: перевелся служить в Харьков. Только напрасно пугался: ни к чему его принуждать мы не сбирались. Да и не пошла бы сама Даша за него, потому что поняла всю низость его. Даже за Степаном Флоровичем Гужским будет ей лучше. Вчера был сговор и благословение. Папенька их образом благословил и пообещал, что даст не двадцать тысяч, а тридцать, только чтобы они были положены на имя Даши, для ее и ее детей. Так что папенька даже очень благородно поступил, и Даша, хоть и плакала, с судьбой своей помирилась. И Степан Флорович тоже пообещал ей, что не будет препятствовать ей книги читать, а детей, если пойдут, они отдадут учиться в гимназию. Может быть, и суждено будет им жить лучше, нежели нам. А еще ложь и глупость, что я писал о Фаине. Ей только и нужны были от меня деньги, как это скоро все и обнаружилось. Я к ним зашел, так как она меня приглашала, и она опять завела речь, что вот, дескать, надо, чтоб я в ихнее общество вошел и взял пай в пятьсот рублей или два пая в одну тысячу рублей. Когда же я Фаине сказал, что эдаких денег у меня не бывает, и весьма сериозно это ей подтвердил, она вдруг разговаривать со мной перестала и объявила, что ей-де, нужда куда-то поехать. А я, дурак, после другой раз наведался. Дверь отпирала Елена Демидовна, на меня эдак косо посмотрела, буркнула: „Фаины дома нету“, – и опять дверь захлопнула, прямо под носом. Я побрел, несолоно хлебавши, восвояси, три дня думал, после письмо написал. Только никакого ответа не удостоился получить. А еще после Лаврентий мне рассказал, что он это доподлинно узнал, что из Полтавы уехала Фаина потому, что чересчур оскандалилась поведением, и что у нас, в Москве, она уже завела себе одного, именно офицера, – и все это Лаврентий выведал верно и мне все имена назвал. А я себе зарок дал: в чужое общество не ходить; сижу, как сыч, один и буду сидеть. Прав был папенька, говоря: „Не к лицу нам это“. Выскакиваем мы, думаем не только уму-разуму набраться, но на людей, так сказать, высших интересов посмотреть и, по необтесанности своей, все у них за чистую монету принимаем. Они-то промеж себя знают, что их слова – так, мякина одна, а мы, пока не привыкнем, не можем этого в толк взять. Вот я и напоролся; и Даша напоролась. Так лучше нам в своем кругу держаться: тут, по крайности, все нам понятно, и никто нас не проведет за нос. И беспокойства меньше, и для сердца куда легче. А все ж таки (и это будет мое последнее слово в сем „Журнале“) не должно отчаиваться, ежели один оказался – подлец, другая – потаскушка. Свет не клином сошелся на двух людях. Мое горе-злосчастье в том, что дороги у меня к настоящей интеллигенции нет. Должны где-то быть и такие люди, которые не только слова говорят, но проводят в жизнь высшие принципы. Ежели в нашу эпоху Россия пробуждается, то есть же и эти ее пробудители, поборники добра и правды. Где вы, работники нивы народной, сеятели знания и культуры, я не знаю! Не подняться мне до вашей высоты из моей топкой трясины, но я верю, что вы где-то стоите, призывая к честному делу. И уже есть круги общества, в которые не задаром упали ваши семена и которые истинно чтут ваши заветы, только мне не найти туда входа. Но ежели не мне, так детям нашим удастся идти по проторенным вами тропам, и за это навсегда вам будет от всего русского народа великая благодарность и слава. Не потерял я веры в лучших людей и буду этой верой крепиться в том аде кромешном, в котором сам обречен погибать!» Кузьме очень хотелось закончить свои патетические восклицания стихами, но, подумав, он отказался от этого замысла. «И поэтом быть – не мое дело! – сказал он себе, но сейчас же добавил: – Вот другое дело дети Дашины, ежели они гимназию пройдут. Как знать, может быть, и окажется среди них – такой поэт, что вся Россия восхитится. Жаль только, что фамилия у него будет такая неподходящая: Гужский. Надо будет посоветовать Даше, чтоб хоть имя выбрала покрасивее, например: Игорь, Валентин или Валерий!»
Примечания
1
«В конце 1504 г., февраля 5-ое». В начале XVI века год еще считался с Пасхи.
2
«Двойной и тройной докторат» – utriumque iuris et medicinae(Обоих прав – гражданского и канонического (церковного) – и медицины (лат.).).
Сочинение по медицине Иоанникия, сирийского врача, несторианца, пользовалось в латинском переводе в Средние века большим почетом, наравне с сочинениями Гиппократа.
3
«О видах магии» (лат.).
4
«О государстве» (лат.).
5
«Демономания колдунов» (фр.).
6
«Молот ведьм» (лат.).
7
Другу читателю (лат.).
8
«Наставление в учении» (лат.). «Doctrinale», сочинение, в гекзаметрах, по латинской грамматике Александра Вилльдье (XI—XII вв.); «Copulata» – сочинение по логике Петра Испанского, впоследствии папы Иоанна XXI (XIII в.); это – школьные учебники, не раз упоминаемые в «Письмах темных людей».
9
«Сборник» (лат.).
10
«Vallis humanitatis» – сочинение Германа фон Буша (1468—1534), в котором он защищает гуманистическое миросозерцание (изд. 1518 г.). Эразм Роттердамский (1467—1536) в 30-х годах XVI в. уже пережил свою славу. Речь Пико делла Мирандола (1463—1494) «De hominis dignitate» пользовалась великим уважением в среде первых немецких гуманистов.
Бернгарт Вальтер, ученик Региомонтана, открывший атмосферическое преломление света (XV—XVI вв.), был известен лишь в кругах специалистов. Напротив, слава Теофраста Парацельса, врача, алхимика, философа, фантаста (1493—1541), была очень громкой, и его знала вся Европа. Сочинение Коперника «О круговращениях небесных тел» в печати появилось лишь в 1543 г., но его идеи в ученом мире были известны раньше.
11
Выражение «время императора Фридриха» (1415—1493) было в ту эпоху как бы поговоркой(В Авторском экземпляре (в Авторском экземпляре романа издания 1910 г. рукой Брюсова были сделаны правки, которые учла комментатор 4 тома Собрания сочинений (1974) Е. В. Чудецкая. – С. И. далее вычеркнуто: Торопливость жизни в начале XVI в. казалась современникам «столь же удивительной, как нам промышленная энергия нашего времени» (выражение К. Лампрехта).).
12
Герман фон Нейенар – один из немногих гуманистов, живших в ту эпоху в Кельне (1491—1530).
13
«Грамматика Цинтена» – сочинение Иоанна Цинтена, ученого схоластика, под заглавием «Composita verbum».
Сочинения, перечисляемые автором, были новинками только для того захолустья, где он жил. Первое издание «Похвалы Глупости» Эразма появилось в 1509 г.; затем в 30 лет вышло около 40 ее изданий. Первое издание «Разговоров» (Colloquia) Эразма вышло в 1519 г. Автор «Торжества Венеры» Генрих Бебель умер в 1581 г. Первая часть «Писем темных людей» появилась впервые в 1515 г., вторая – в 1517 г.
14
Нападение на Трир Зикингена относится к сентябрю 1522 года.
15
Флоризель Никейский, сын Амадиса Галльского, – герой одного из «рыцарских» романов.
16
«Rustica gens optima flens pessima gaudens», т. е. крестьяне лучше всего, когда плачут, хуже всего, когда радуются, – выражение в книге Феликса Геммерлина «De nobilitate» (1457 г.). Крестьянин был постоянным предметом насмешек для немецких писателей XV—XVI вв. Говорили: «Крестьянин отличается от быка только тем, что рогов у него нет».
17
«Непобедимым еретиком» называл Лютера Агриппа Неттесгеймский (Epistolae, VII, 13).
18
Автор называет Георга фон Фрундсберга (1473—1528) «победителем французов», вероятно, как участника битвы при Павии.
19
Марсилио Фичино – итальянский гуманист (1433—1499).
20
Дюрер в это время уже заканчивал свою жизнь (1471—1528), Рафаэль умер несколько лет назад (1483—1520), С. дель Пиомбо (1485—1547) и Микель-Анджело (1476—1564) были в расцвете своей славы, Б. Челлини (1500—1571) пользовался уже большой известностью.
21
Кортец (1485—1547), после своих завоеваний в Мексике, приезжал в Европу весной 1528 г., был принят королем (т. е. Карлом V, который был одновременно и императором германским) в Толедо и получил титул маркиза Долины Оахаки.
22
Название Америки было предложено (в космографии Мартина Вальтцемюллера) еще в 1507 г., но утвердилось за «Новой Испанией», «Новым Светом» или «Западной Индией» лишь значительно позднее(В Авторском экземпляре далее вычеркнуто: Автор «Повести», употребляя иногда слово Америка, предпочитает выражение «Новая Испания», которое означало собственно только Мексику.).
23
Королевской Аудиенсией называлось высшее правительственное учреждение Мексики.
24
Крупные верхненемецкие купцы уже с самого начала XVI в. стали основывать колонии в Америке. Вельзеры, как и Эллингеры, держали, в начале XVI в., в аренде медные рудники на Сан-Доминго; у Фуггеров были фактории на Юкатане; Кромбергеры владели серебряными рудниками в Сультепеке; Тецели – медными рудниками на Кубе (К. Лампрехт. История немецкого народа. М., 1896).
25
Чикора (Chicora) – прежнее название Каролины. Тумбес (Tumbes) – город в Перу (J. Egli. Nomina geographica. Leipz., 1893).
26
Эскудо – экю, испанская монета; здесь, конечно, имеются в виду серебряные эскудо. Иоахимсталеры – серебряные двойные гульдены, которые с 1517 г. стали чеканить графы Шлик в Иоахимстале. Пистоли – испанские золотые монеты, содержавшие 2 золотых эскудо. Монетная система в Германии XVI в. была крайне сложной и неопределенной.
27
Анагуак – местность в Мексике.
28
Коли понравилась тебе девка, // Так молчи, раз нет ни гроша (нем.).
29
Раймонд Люллий (1235—1315) устроил особый прибор, вращающимися кругами которого можно было, как он думал, механически вырабатывать истины. То были зачатки алгебраической логики. «Реалисты» – последователи «реализма», одного из направлений средневековой философии, противоположного номинализму. «Miracula» и «Natura», чудеса и естественный ход вещей, – схоластические термины.
30
«Имел я рыцарское право». В XVI в. рыцарство находилось в упадке, и рыцарями часто называли себя все военные люди, не имея на то формального права.
31
«Никогда до того дня не видел я таких содроганий и не подозревал, что человеческое тело может изгибаться так невероятно». Эти истерические конвульсии, изученные ныне школою Шарко, были наблюдаемы и старинными врачами и описаны у И. Вира в его книге «Des illusions et impostures des diables» (L. I., chap. XII; о Вире см. прим. к гл. VI).
32
«Освободи меня, Господи, от вечной погибели» (лат.).
33
Св. Амалия Лотарингская, жена пфальцграфа Витгера, жила в VII в. Ягненок – эмблема св. Агнессы.
34
«Благочестивейший», piissimus, – титул французских королей(В Авторском экземпляре далее вычеркнуто: Во Франции долго было распространено поверие, что прикосновение короля исцеляет все недуги.).
35
Герцог австрийский Фердинанд – впоследствии император Фердинанд I (1503—1564).