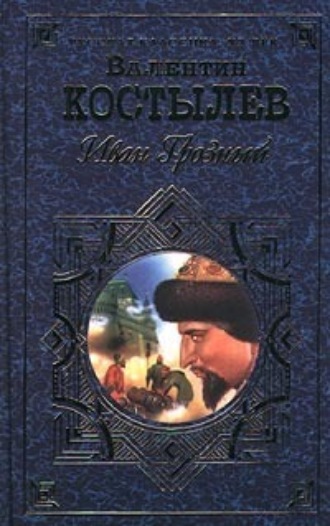
Полная версия
Иван Грозный. Книга 1. Москва в походе
Алексей Басманов, уже немолодой человек, держался свободно, смело и смотрел просто, без заискивания в лицо Ивана Васильевича.
Глядя на него, вдруг осмелели и дворяне. Они жаловались на то, что Боярская дума не замечает заслуг многих дворян, ибо она держится обычаев знатности и родословности, а людей меньшего рода не честит.
В этих речах, хотя и осторожных, слышалось все же недовольство боярскими порядками верстания землею служилых людей. Василий Грязной к тому же закончил свою речь словами: «Ты, государь, как Бог, и делаешь малого великим. Все от тебя, великий государь!»
Иван Васильевич терпеливо выслушал подобострастные слова созванных им на совет служилых людей. Однако сам он о Боярской думе высказался с большим почтением. Он сказал, что Дума создавалась прежними великими князьями из «стародавних честных родов» и многую пользу принесла прежним великим князьям и государям. Боярская дума дала государству немало мудрых правителей и храбрых, доблестных воевод, и ныне царю надлежит всякие дела решать «с государева доклада и со всех бояр приговору».
На советы были определены земельные оклады: дьякам, подьячим, губным старостам, городовым приказчикам, ключникам, осадным головам, засечным приказчикам. Больше всех царь назначил оклад толмачам – от ста пятидесяти до тысячи четей[29].
Тут же царь указал, что такому хорошему толмачу, как переводчик турецкого и «фарсовского»[30] языков Кучук Устакасимов, мало дать и тысячу четей земли. Иван Васильевич очень хвалил этого толмача.
Составлен был длинный список по земельному верстанию. Царь велел дьяку прочитать его во всеуслышание и затем спросил:
– Ладно ли, добрые молодцы, мы с вами обсудили то дело и не учинили ли обиды какой?
Все, стоя и низко кланяясь, благодарили его за доброе внимание к себе.
После их ухода царь задумался, глядя в окно. По Москве-реке тихо плыла рыбачья лодка. Было тепло и солнечно. Несколько раз в окно влетел с жужжанием шмель. Вот он сел на стол. Царь с улыбкой сильным щелчком сбил его со стола. Оглушенный шмель, просидев несколько мгновений на подоконнике, вдруг расправил крылья и стремглав полетел напрямик к Тайнинской башне.
Проводив его глазами, царь сел в кресло и стал вслух читать записанное дьяком на бумаге.
VIIIИз дальних болот через Трубное взгорье течет эта неширокая, с берегами, поросшими репьем и лопухами, река Неглинка. На правом берегу – огороды, слободские строения, бревенчатые церкви, колодцы «журавлем»; на левом – Пушечный двор, Кузнецкая и Оружейная слободы.
Андрейка приблизился к Неглинке, чтоб попасть в Пушечный двор. Сюда послал его из Разряда дьяк Иван Юрьев.
Недолго стоял в раздумье на правом берегу Андрейка. Вскоре он увидел мелкую ладью с рогожей, готовую отойти к другому берегу. Гребец охотно захватил с собой парня.
Берег низкий, отлогий, огорожен крепким частоколом, за ним видны главы храма Софии Премудрости.
Андрейку окликнул угрюмый воро́тник[31] с копьем:
– Эй, вихрастый! Ходи сюды! Чей?
– То ж, что и ты, – государев.
– Перекрести харю!
Андрейка усердно помолился на храм.
– Кайся! Чего ради в слободу залез? Не ровен час и железа́ на мостолыжки: кузнецы рядом. – Ехидная улыбка мелькнула на заросшем, косматом лице воро́тника.
– Не спесивься, Афоня, не на того напал ноне! – огрызнулся, выпрямившись, Андрейка. – Сам батюшка-царь послал меня. Литцом да пушкарем буду. Во́, гляди!
Андрейка вытащил из-за пазухи грамоту.
– Не умудрил осподь! – смиренно попятился изумленный смелостью парня воро́тник и копье убрал с дороги.
– Веди в пушкарскую избу.
– Ладно. Шагай – лаптей не теряй.
Едкий дым стлался по земле. Защипало в горле и глазах.
– Ого! Заслезило! – рассмеялся воро́тник. – Засопел?
Андрейка вытер рукавом глаза.
– Дух чижолый! – закашлялся.
– Э-эх, овечка! Вон, гляди! Ямы… печи…
Пустырь. Ни травинки, ни кустика. Песок, трудно идти. Деревья голые, почерневшие. Место неровное: норы, бугры, камни, дрова… Кое-где смердит дым, а где и огонь вырывается. Оголенные до пояса, покрытые копотью, возятся около ям и бросают в желоба темно-бурые куски болотной руды. Ни на землю, ни на глину не похожа.
– У-ух, дядя! Народа-то што! – невольно вырвалось у Андрейки. В сильном волнении он огляделся кругом.
Около ямы кирпичные вышки. Рядом колеса, похожие на мельничные. На воротах канаты, перекинутые через перекладину.
Парень, вконец озадаченный, схватил за руку воро́тника.
– Куда привел?
– Иди! Иди!
Чем дальше, тем труднее становилось дышать и труднее двигаться среди угля, железа и дров. Поднялся такой шум, что невозможно стало слышать голоса соседа.
Солнце в этом чаду выглядело тусклым, желтым, словно блин, плоским кругом.
В пушкарской избе сидел немолодой угрюмый боярин, а около него – чудно́ одетый, не по-московски, безбородый иноземец.
Андрейка вручил боярину грамоту. Боярин пристально осмотрел парня, неодобрительно покачал головой.
– Семейка! – крикнул он. – Дурень!
Из-за перегородки выскочил стрелец с бердышом. Задрал барашковую шапку: татарское лицо, косоглазое, озабоченное.
– Возьми, – указал боярин на Андрейку. – Сдай Григорию… С государева двора то.
Парню показалось, что боярин недружелюбно покосился на него.
Стрелец ткнул Андрейку кулаком в бок. (Ничего, парень в «теле».)
– Пластайся! Кланяйся! Боярин Телятьев!
Андрейка стал на колени, до земли поклонился боярину.
– Лезут к царю! – услышал он позади себя ворчливый голос Телятьева.
Вдоль высокого частокола, в щели которого видны разбросанные во множестве по пустырю пушки, Семейка повел Андрея.
– Отколь? – спросил он.
– С-под Нижнего… С Волги… Безродный.
– Царь-батюшка, стало быть, послал тебя?
– Сам батюшка-царь… Точно.
– Н-ну! – Семейка с удивлением оглядел Андрея. – Смелой ты. Не убоялся?
– Струхнул малость… Да зря.
– Своими глазами так и видал его, батюшку?
– Своими. Как тебя. Зоркий! Крепкий!
Стрелец перекрестился.
Андрейка снисходительно посмотрел на него. Любопытство, с которым Семейка расспрашивал про царя, было ему забавно. Андрею было приятно, что его расспрашивают про дворец, царя, беседу с ним.
Семейка вздохнул:
– Э-эх, кабы мне побывать у царя-батюшки! Я бы ему рассказал. Все бы до ниточки поведал бы.
– Али челобитье какое?
– Лютый народ объявился: И отколь они взялись?
– Про кого же ты? Кто такие?
– Ой, брат! Поживешь – сам увидишь. Боярин Телятьев – медведь, а около него – шакалы. Они хоть и маленькие, да кусачее медведя. У них не вырвешься. Гляди, они и медведя сожрут. Хуже бояр народ объярмили.
– Ну! Про кого же ты?
– Обожди! Узнаешь. У нас так ведется, что изба веником метется. Говорю про дворян. В избе народ видел?
– Видел.
– Вот они и есть. И каждого сам царь посадил в слободу. Неродовиты, да сердиты! Возьми вон Грязного, Кускова, Курицына Афонасия… Кто они? Иные просто казаками были, а иные из дворян. А этот Грязной – сущая коза в сарафане, Никита Елизаров – тож. Григорий Плещеев из холопов же… Испоместил их царь за Казань: много их. Народу не легче от них.
– Пошто он на меня глазища таращит? Боярин-то?
– Постоянно так, когда сам царь присылает. Боярину-то не по нутру… Вперед не лезь! Того хуже едят. Чай, знаешь: жалует царь, да не жалует псарь. Испокон века так-то. Коли наверху похвалят, жди на низу горя.
– Пойми, дядя! Хочу пушкарем быть! Душа не терпит. Готов все снести, лишь пушкарем быть.
– Вона што! А Телятьев посылает тебя к плотникам да к дровосекам. Поперек твоей мысли.
Андрейка притих. Зато стрелец, оглядевшись с опаской, молвил:
– И во всем у нас подобное: царь так, а бояре этак. Думаешь, царь не ведает?
Андрейка тоже огляделся кругом.
– Ведает, – прошептал он стрельцу в самое ухо. – Конюх под крестом клялся нам. Царь сам боится бояр. Весь народ в Москве будто про это знает. Но есть люди верные у него. Не выдадут.
Беседуя, не заметили они, что подошли к Неглинке. На реке несколько мельниц. Кузнецкий мост кишит народом. И под мостом на бревенчатых перекладинах сидят люди, поправляя мост. По берегу бегает малого роста человек в синем кафтане. Кричит, грозит дубинкой.
– Вон он – Григорий Грязной, брат Василия Грязного… Не слыхал ли? – тихо спросил стрелец. – К нему тебя послали.
Андрейка подумал: «Не тот ли, что, цыгана похож? Нет! Не тот!»
Увидев Андрея, Григорий Грязной закричал:
– Чего рот разинул?
Семейка рассказал все, что знал об Андрее.
Грязной сразу притих.
– Добро, хлопец, хватай топор: секи дрова! На воду тебя не пошлю. Робь на суху. Дрова дубовые. Пушек для. Да не мельчи.
Андрейка поклонился, поднял с земли топор, на который указал ему Грязной, и, перекрестившись, начал работать.
Семейка опрометью побежал обратно в Пушкарскую слободу.
Повыше Неглинки, на горе, бушевала огнями и железом Кузнецкая слобода. Дымили горны, мелькали молоты, кричали сотни людей.
К Андрею подошел плотничий староста.
– Видать, резвый!
– Такой я, какого Господь Бог народил… Не наша на то воля.
– У кого она ноне, воля-то? Живем и все чего-то ждем. Течем, как ручьи:
Андрейка поморщился. Не понравилась ему кислая речь старосты.
Он не выдержал и сказал:
– Ручьи падают в реку, а река, она большая, и конец ее в море урывается, а море того больше. Не напрасно живем. Мыслю имеем. На то и родились мы, чтобы жить.
Староста вздохнул со смирением. Андрейка подметил смущение на его лице: что? испугался?
Староста, видимо, хотел, как и многие другие, посудачить о теперешней жизни, повздыхать о былых временах.
– Не худо понимать! Што Бог велит, то и царь делает, – строго сказал Андрейка. Он повторил не раз слышанное им.
Староста удалился. Около моста мелькнула дубинка Грязного.
* * *Андрейка недоволен был, что его послали не туда, куда он хотел. Он вернулся к литейным ямам. Тянуло в пушкарскую избу попросить боярина, чтобы его отослали к пушкарям.
Вот где жара! Одно – смотреть со стороны, другое – очутиться здесь, внутри. От жары и чада сперло дыхание. Пылали сотни огней в земляных печах, обжигая руду. По желобам медленно тянулась жидкая масса расплавленной бронзы. Обнаженные до пояса, красные от огня и загара, литцы то скрывались, то снова появлялись в клубах красновато-черного дыма. Остатки отработанной руды серыми, рябыми кучами загружали пустыри. Лазая по ним, Андрей увидел многих мужиков, спросил, что делают. Оказалось, очищают мотыгами железную руду «от пустой породы». Рядом обжигали эту руду. Дальше из железной руды выплавлялся чугун. Чугун отливали в «штыки», или «свиньи», для дальнейшей обработки.
В стороне множество людей подносило к литейным ямам землю, другие просеивали ее, третьи таскали воду в кадушках, поливали землю, она шипела, дымилась белым паром. Тут же бугры песка, известки, глины.
Все это вызвало в Андрейке такое любопытство, что ему захотелось обо всем расспросить работных людей, но… он боялся, как от этого не получилось худа для него.
Он старался не показываться на глаза, прячась за кучами железа и чугунных ядер, наваленных в соседстве с литейными ямами.
Он залюбовался ядрами, покрытыми серой пылью и копотью. Одни побольше, другие поменьше. Попробовал поднять: гладкие, увесистые.
Появились с носилками и тачками оголенные до пояса татары. С плетью в руке шел за ними длинноусый морщинистый мурза. За кушаком у него блестел громадный серебряный кинжал. Татары стали накладывать ядра на носилки и относить их в сторону.
Андрейка счел за благо поскорее убраться с этого места.
На большой площади, недалеко от церкви, множество кузнецов опиливают уже отлитые пушки, сверлят дула и запалы.
Тут к Андрею подошел караульный стрелец, подозрительно осмотрел его:
– Чего бродишь?
– Царем послан учиться пушечному литью.
– Царем! А чего понимаешь?
– Понимаю то, что понимаю, – ответил Андрейка отвернувшись.
– Ого, да ты норовист! – Стрелец рассмеялся, но вдруг остановился, прислушался к продолжительному вою сигнальных рожков. В Пушкарской слободе поднялась суматоха.
Стрелец снял шапку, перекрестился:
– Неужто опять царь? – Сорвался с места и побежал вдоль берега Неглинки к храму Софии Премудрости.
Туда же беспорядочно бросились бежать и толпа литцов, кузнецов и плотников. Недолго думая, бросился за ними и Андрейка. Ударили в колокол на вышке близ храма. Голубиные стаи взметнулись над слободой. Собаки подняли бешеный лай на побережье.
Забилось сердце от волнения у Андрея.
Около храма Софии уже толпился народ. Расчищая путь царскому выезду, впереди ехали верхами четверо стремянных стрельцов. У каждого из них на луке седла барабаны, видом в полушарье, в которые они и колотили, что было мочи, короткой деревянной палкой с набалдашником. Позади гарцевали четыре всадника татарской конницы с копьями в руках. А затем следовал царский возок, обитый зеленою тканью с золотыми узорами. Его тянули цугом шесть серых, в яблоках, лошадей. Шествие замыкали боярские дети верхами на вороных аргамаках.
Около храма Софии поезд остановился. Соскочившие с коней боярские дети открыли дверцу возка, став рядом по обе стороны пути, где царь должен был пройти в церковь. Выскочившие из церкви служки раскинули ковер по земле около возка, протянув его до самых церковных дверей.
Царя на паперти встретило духовенство.
Пробыв недолго внутри храма, царь Иван сошел в слободу, окруженный боярскими детьми и стрельцами. Сотники и дьяки, низко кланяясь, приблизились к царю. Он расспросил их о том, как у них идет работа.
На нем был простой зеленый кафтан, а на голове бархатная скутафья.
Он зашагал впереди всех, осматривая готовые, но еще не отделанные окончательно пушки. Тут только заметил Андрейка, что царь был едва не на целую голову выше всех окружающих его людей, – плечи высокие и широкая грудь. Руки и ноги громадные – настоящий великан!
Подозвав к себе пленного шведа Петерсена, давно жившего в Москве и обрусевшего, царь, немного сутулясь обратился к нему:
– В нынешние времена, поведал мне один заморский гость, огненное оружие льют не токмо из бронзы, но и из красной меди колокольной али из желтой меди да из олова… За крепчайшую и лучшую матерь не почитают. И растапливают ее в печи, и очищают гораздо. Слыхал ли?
– Слыхать слыхал, но не видывал, твое государское величество, – ответил швед, низко поклонившись.
– И нам бы испробовать подобное. Вижу я из слов и писаний иноземцев, мудрые люди там, хитрецы великие… Да не перехитрить им моих людей. Обождите, скоро повезут и мне медь всякую. И то укрепит наш Пушечный двор, но…
Царь не досказал. Брови его сурово сдвинулись.
– Покуда Ливония не будет покорна Москве, заморская торговля мало даст. От нас ждут многого. Скоро-скоро иссякнет Божье терпенье! И мое тоже.
Во время беседы царя с Петерсеном Андрейка протискался к царю, упал ему в ноги.
– Батюшка-осударь! – только и успел он произнести, как на него набросились стрельцы, чтобы оттащить его. Боярские дети обнажили сабли. Татарская стража склонила копья.
Все замерли.
Царь сделал жест рукой, чтобы не трогали парня.
– Как смел ты, дерзкий, лезть к царю! Откуда дерзость твоя! – ткнул он его ногой в голову.
Андрейка со слезами в голосе воскликнул:
– Обманули тебя! Не пушкарь я, а дровосек!
– Безумный смерд! – и, подозвав Телятьева, сказал: – Накажи!
Боярин велел стрельцам взять Андрейку под стражу. Опять увидел парень перед собою юркого Григория Грязного.
– Каиново племя! – грубо схватил он Андрейку.
Царь продолжал беседу со шведом. Он велел принести зати́нную пищаль[32], вылитую по новым чертежам. Долго любовался ослепительной гладью металла внутри ствола. После того внимательно осмотрел готовые пушки, затем простился со всеми и снова соел в возок. До самых ворот Пушечного двора провожала его толпа дворян и мастеров.
* * *Андрейку бросили в темный чулан, где полно было грязи, пауков и крыс. Он слышал, как трезвонили колокола, гудели дудки, провожая царя. Вот к чему снился в эту ночь колычевский сарай и медведь на цепи.
Теперь парень раскаивался, что полез к царю, да еще на людях. Могут ли понять его горе царь, бояре и дворяне? Они высоко: Андрейка кажется им букашкой, которую они в любое время могут раздавить. Бог знает, может, и он, Андрейка, коли получил бы такую власть, раздавил бы многих, а в первую очередь боярина Колычева и этого проклятого Гришку Грязного. Андрейке тоже было бы непонятно боярское горе… Но никогда бы он, Андрейка, не стал карать людей, кои хотят стать воинскими людьми. За что же их наказывать? Он бы, Андрейка, выслушал тех людей, а боярина Телятьева посадил бы в чулан. О, если бы он был царем! Он бы судил людей справедливо, по-Божьи. Всякого, кто бы ему мешал, он убивал бы жестоко, без сожаления. Повинную голову с плеч долой. Царь должен быть добрым, справедливым, к народу милостивым.
Мысли о том, что хорошо бы стать большим господином, мелькали не только в голове Андрейки, и не только ему хотелось творить суд и расправу на земле так, чтобы беднякам, тяглым людям, бобылям и всему народу было хорошо.
Десять лет назад в Москве были смутные дни. Малые посадские люди восстали на бояр Глинских, родичей матери царя, и на всех других вельмож, ища правды. Об этом прослышали и в богоявленской вотчине. И нашелся один парень на селе, а звали его Капитонкой, который собрал людей и повел их, чтобы боярина Колычева порешить. Ладно, вовремя боярин ускакал в Нижний, а то бы несдобровать ему. После того Капитонка ушел в лес, а с ним людей два десятка с рогатинами и топорами. Чудной был Капитонка! Бывало, курицу не зарежет. Блажной, на удивление, всех жалеет, всякую тварь. А тут, словно креста на нем не стало, начальных людей и знатных господ рубил безо всякой жалости. И много правдолюбцев в те поры в лесах развелось. Мужики их не боялись, а когда воевода изловил Капитонку и голову ему срубил, по всем деревням и селам плач был великий, будто помер родной отец либо брат. Многие ведь мужики думали так же, как Капитонка.
Испугался и царь тогда; сказывали монахи – на площадь к народу выходил, будто даже сказал, что «от сего страх вниде в душу мою и трепет в кости мои». Царя-то никто и пальцем не трогал. Зря испугался!
Вспомнил Андрейка, как при встрече царь сказал ему, Герасиму и Охиме, чтобы они не помнили зла на Колычева. И теперь глубоко призадумался парень: кого же боится царь – народа или бояр? И почему-то ему подумалось, что народа он не боится, а боится бояр. Вот и теперь – за что разгневался на него, Андрейку? И тут показалось парню, что делает он это не ради гнева, а ради угождения окружавшим его начальникам. Какой же это царь?!
Всю ночь не спал парень, раздумывая, как бы людям добиться правды в государстве.
«Пошто томлюсь? – тянулось у него в мозгу. – Пошто держат меня в этом чертовом погребе, в этой паучьей берлоге? Да еще, гляди, и батогами бить учнут. На съезжий двор поволокут, а там известно: либо кнутом, аль огнем, либо дыбой… Без молитвы, без покаяния Богу душу отдашь! Обидно!»
* * *Утром Андрейку наказывали батогами; били так, что он до своего чулана, куда его снова ввергли, едва дошел. На съезжей он видел много людей, которых били: кого батогами, кого кнутом, видел он и таких, которых привешивали за ноги к дыбе. Навсегда, кажется, останутся в памяти налитые кровью глаза, свесившиеся космы волос, синие ногти и руки, стоны. А эти проклятые черти тянули за руки несчастных книзу, к земле. Ах, как хотелось Андрейке в ту пору вскочить, убить наповал мучителей и снять с дыбы мужиков!
Так и решил: поведут его еще раз на съезжую, чтобы пороть, он выхватит саблю у стрельца и перебьет всех катов.
Вечером чулан снова отперли. Пришел десятский и объявил Андрейке, что получен приказ освободить его и отвезти на обучение к иноземцу, свейскому мастеру.
Избитый, в синих рубцах, Андрейка послушно побрел за десятским.
– И что же вы со мной делаете? – сказал он дорогой. – И как же вам не грешно?
– Э-эх, куманек, живи себе молча, лучше будет! – усмехнулся десятский.
– Гляди сам. Живого места нет:
– Худо, братец, худо! Что делать?
Свейский мастер, которого все звали Ола, встретил приветливо. Он был хотя и еще не старый, но уже сед, как лунь. Голубые глаза смотрели ласково. Андрейка ободрился, подошел к нему.
– С Богом! Ходишь себе! Ничего! – сказал Ола.
Было у Петерсена под рукою несколько русских мужиков. Тоже молодые, сильные ребята.
Один спросил тихо Андрейку:
– Окрестили?
Андрейка не понял вопроса. Тогда тот же мужик сказал:
– Новичков всех так. Ты не один.
Андрейка сердито огрызнулся. Ему хотелось забыть о кнуте.
– Зашибленное заживет, а телячий хвост все одно языком не станет.
Швед начал усердно учить Андрейку литью и ковке пушек и ядер. Все пушки осмотрели молодые пушкари, а с ними и Андрейка.
Швед разделил орудия на полевые и мортиры. Первые он назвал «польными делами», вторые – «делами огненными».
Он рассказал, что пушки льют в нынешние времена большею частью из бронзы, но лучше было бы их лить из красной меди.
– Она крепче, лучше, – объяснял он молодым пушкарям, – но ее мешают завозить в Москву немецкие, шведские и польские пираты.
Далее он показал, как из глины делаются формы, как их укрепляют железными обоймами, как формы смазываются салом и вкапываются в землю.
Ола Петерсен рассказал и о лигатурах, или составах металла, и о том, как испытывать состав, как пушку делить на части, о банниках из кожи и щетины, о железных кованых, о свинцовых и каменных ядрах и о многом другом.
Пушкари слушали его разиня рот.
Смешным показался им рассказ шведа о древних воинских махинах. Андрейка, смеясь, слушал про то, что древние пушки были овцам и козлам уподоблены, а назывались совсем чудно: катапультами, баллистами и скорпионами. Стены каменные разбивали ими. А было то две тысячи лет назад. И придумали их греки. Махины те строились бревенчатые, громадные. Заряжались катапульты каменными ядрами, а иной раз бочками со змеями. Падая на землю, бочка разбивалась, и из нее расползались змеи. Люди, защищавшие крепости, в испуге разбегались.
Швед показал на маленьких палочках, как строились те махины и как из них можно было палить.
Молодые пушкари, слушавшие рассказ Ола Петерсена, в том числе и Андрейка, еще более смеялись, когда узнали, что вместо фитилей и пороха действовала воротяжка, на которую воины туго накручивали канаты из воловьих кишок. Стреляли из катапультов и баллистов в неприятеля и всякою дохлятиною, вроде дохлых собак и кошек.
Пушкари далее поняли из слов шведа, что то была война гишпанского короля с измаильским народом – эфиопами. Испанцы осаждали город Алхезирас, но арабы стали в них стрелять огнем из какой-то неведомой трубы, а из огня вылетало железное ядро и побивало испанцев. Они разбежались, думая, что с эфиопами заодно сам дьявол.
Веселый смех парней и бородатых слушателей заглушил слова шведа.
Петерсен, довольный тем, что его так внимательно слушают, сказал:
– Москофский человек… меня понимает… Дьяфол, нечистый дух, – швед с насмешливой улыбкой плюнул, – нет, неправда! Огонь – селитра, мешай уголь, зажигай – и летит! Фот и вся чудиса! Фот и вся дьяфол!
После того он показал Андрейке и другим пушкарям фальконет, привезенный, по приказу царя, боярским сыном Лыковым из Италии.
Петерсен укоризненно качал головой:
– Не то, не то… Э-т-та плохой пушка! Фи! Наш москофский лучше… – и он пригнулся, присвистнул, вытянул руку кверху, будто показывал, что вверх полетело ядро… – Паф! Паф! Паф!
Успокоившись, швед заговорил о менее понятных Андрейке вещах. Он говорил, что огненное оружие проверяется измерением, «математ-тикой».
– Не наугадь! – замахал он руками, сморщившись. – Ни! Ни! Какой! Огненное оружие стреляет в пропорции длина и его крепость: К заряжению протиф ядра-линеи быфают… И подолги и покоротки фылиты. Не думай – доле пушка будет, доле и стреляет! Нет! Надо математик… Пушечное ядро должно фидеть перфоначально крепость… Пушку беречь надо, как… мать, жену, точь… Ядро, как золото… Язвин или дир не можно… Кнутом буду бить! Царю скажу!
Когда уже стемнело и все литцы, кузнецы и пушкари разошлись, Петерсен отвел Андрейку в сторону и тихо, с улыбкой, сказал, что царь вспомнил о нем, Андрейке, и велел выпустить его из чулана, а ему Петерсену, приказано быстрее обучить его, Андрейку, пушкарскому делу…
IXСреди деревянных хибарок Никольского прихода Андрейка без труда разыскал большой, о двух житьях, каменный дом Печатного двора. Таких домов не много в Москве, разве только у самого Ивана Васильевича. Царь на что скуп, а тут не пожалел никаких денег для этой «нечистой силы». А зачем и чего для – никак никто понять не мог. Диву давались люди: на кой леший Москве сия чудная хоромина! Поп Никольской церкви во хмелю расхрабрился и с амвона проклял «сатанинский чертог» да еще внушал богомольцам подальше от него быть и мимо пореже ходить. Митрополит Макарий сослал за это попа на Соловки.







