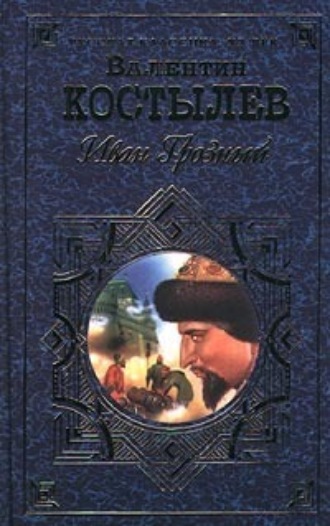
Полная версия
Иван Грозный. Книга 1. Москва в походе
Псы затявкали, взбеленились.
Герасим нащупал нож. Бродяги лениво повернули головы в сторону Охимы. В их глазах было мутно, невесело. Однако язык шевельнулся, чтобы сказать непотребное.
Андрейка шепнул Герасиму:
– Кабы теперь шестопер… почесал бы я их.
– Умолкни! – сурово отозвался тот, покосившись с тревогой в сторону бродяг.
Ускорили шаг. Дошли до каменной башни со сводчатыми воротами и, пройдя их, очутились на тесно застроенном месте. И справа и слева лари, часовни, церкви. Деревянная, из бревен, мостовая. Вдоль стены ходят стрельцы, в железных шапках, в красных кафтанах, с пищалями в руках. Молча следят за проезжими и прохожими.
– Устал, други! – вздохнул Андрейка. – Никак не пройдешь ее. Вот так Москва! Велика и богата, не как у нас, в Нижнем…
Герасим опять: «Молчи, держи язык за зубами».
Андрейка надулся. Первый раз за всю дорогу обиделся на Герасима. Охима – на стороне Андрейки. Она стала замечать, что Герасим зря нападает на товарища, к делу и не к делу ворчит на него. Девичье чутье ей кое-что подсказало. Ей стало жаль Андрея.
Улицы постепенно становились чище и оживленнее. На каждом перекрестке столб с иконой, а около него нищие, дети, голуби. Сновали метельщики, прихорашивая деревянные мостовые, поднимали тучу пыли, вспугивали голубей и ворон. За канавами по бокам дороги вытянулись длинные ряды лавок, харчевен. Пахло паленым мясом, салом и рыбою.
Конная стража разгоняла плетьми толпы кабацких ярыжек, пьяниц, любителей поиграть в зернь[13].
Чем ближе становился Кремль (уже ясно были видны широкие золоченые куполы соборов и башен), тем больше стало попадаться воинских людей, особенно стрельцов. Монахи бродили по улицам робко, с опаской оглядывались и поминутно крестились.
Царь строго-настрого повелел приставам и стрельцам следить за монахами, чтобы «не чинили порухи уставу Стоглавого собора[14] и не предавались бы пиянственному питию и вину бы горячему». Даже сквернословить было запрещено. А ходить нагими, мыться вместе с бабами и вовсе каралось плетьми.
В Китай-городе курных изб почти не встречалось. Окруженный огородами с плодовыми деревьями и ягодными кустами, высились нарядные бревенчатые хоромы. Широкие сени и выкрашенные узорчатыми рисунками лестницы. В маленькие окна виднелись зеленые изразцовые печи, иконы, кое-где развешанные по стенам сабли, доспехи…
Путники с любопытством старались заглянуть внутрь домов. Увы! Высоко, не дотянешься. Старушка-нищенка, просившая милостыню под окнами, пояснила: в Китай-городе живут бояре, князья да богатые купцы.
А вот и Кремль! Грозный, неприступный, с высокими в несколько рядов зубчатыми стенами и еще более высокими башнями и соборами.
Вблизи Кремль совсем ошеломил нижегородцев. Думали, их нижегородский кремль – невиданное и неслыханное чудо. Ан вона что!
Герасим и Андрейка отстукали несколько земных поклонов. Охима прошептала что-то по-своему, по-мордовски. На щеках ее заиграл румянец, словно нашла она своего Алтыша. На самом деле она стыдилась при спутниках молиться по-своему.
Обширная торговая площадь перед Кремлем, называемая «Пожаром»[15], потому что некогда место это выгорело, – была загромождена палатками, ларями, распряженными телегами и лошадьми. Пестрая толпа клокотала здесь. Гудошники, блинники, сбитенщики, медвежатники-поводыри сновали в толпе наехавших в Китай-город принарядившихся крестьян. Крики, свистки, ржанье коней, колокольный звон оглушали.
На торговых лотках раскинуты шелковые материи, алтабасы[16], турецкие ткани, узорчатые ширинки, кружева. У Охимы глаза разгорелись. Она отделилась от Герасима и Андрея, остолбенела перед развернутыми кусками материи, точно околдованная. Дыхание сперло в ее груди. Ноги будто железом скованы.
Герасим вместе с Андрейкой едва не потеряли ее из виду. Они шли к кремлевской стене, думая, что и Охима с ними. Оглянулись – ее нет. С трудом разыскали.
– Экая ты, чего прилипла? – заворчал Герасим, взяв ее за руку. – Идем. Да ну же! Ишь, растаяла!
Она отдернула руку, нахмурилась.
– Охимушка, не упрямься! Уйдем отсюда, – ласково погладил ее по плечу Андрейка. – Не прельщайся алтабасами…
Она не обратила внимания и на его слова.
Пришлось обоим силою оттащить ее от лотка с красным товаром.
– Да какая здоровая! Никак не сдвинешь! И чего ты там увидела? Дура! К царю идешь, забыла?
– А ты чего цапаешь? Чего цапаешь? – сердито закричала девушка; в голосе ее была досада и даже слышались слезы. Она со злом стукнула Герасима по спине.
– А может, ты потерялась бы? Одна осталась!
– И пускай! Без вас бы дорогу нашла…
Успокоившись, все трое направились дальше.
Около стены глубокий ров, наполненный мутною водой.
Слепила белизна стен Кремля, освещенных ярким солнечным светом.
Налево, надо рвом – мост, ведущий в кремлевские ворота.
– Идем туда, – толкнул своих спутников Герасим.
– Не пустят, пожалуй, – почесал лоб Андрей. – Да коли не пустят, через стену полезем…
– Эка, расхрабрился! Их тут три стены… Не голубь, чай! Да и через ров как переберешься?! В нем, гляди, сажен десяток с пятком буде.
Все трое вошли во Фроловские ворота[17] беспрепятственно.
В одном из кривых переулков огромного, богатого Кремля беглецы наткнулись на горбуна-чернеца. Он был ласков и на слова не скуп, расспросил парней – чьи они, откуда и зачем идут к царю. Андрейка поведал ему, как его мучил боярин Колычев. Чернец вздыхал, качая головою, ужасался. Назвался иноком Самуилом.
– Так будь же милостив, добрый человек, отведи нас в царевы палаты…
Лицо инока стало печальным, он тяжело вздохнул, скорбно покачал головою:
– Увы, чада мои, не легко то! Грозен наш батюшка-государь, Господь с ним! Не примет он вас, в темницу ввергнет… в железо обрядит… пытать учнет…
Парни переглянулись. Как же так? За правду, за челобитье – в темницу?
Горбун задумчиво погладил бороду и тихо молвил:
– Ступайте, голуби, за мной… Поведу вас к доброму государю, двоюродному брату цареву, ко князю Володимеру Андреичу Старицкому… Поведайте ему горе свое, и приголубит он вас и царя Ивана Васильевича попросит за вас, горемышных.
– Ну, что ж! Веди, добрый человек, к тому доброму князюшке, к болезному заступнику, помоги нам, злосчастным.
Горбун повел их через площадь к небольшому тенистому саду. Широколиственные, могучие клены окружали богатый дворец с узорчатыми слюдяными окнами, обведенными резною отделкою.
У ворот стояла хмурая вооруженная стража в панцырях.
Горбун сказал что-то непонятное рябому усатому воину – тот пропустил странников внутрь двора. Но только вошли они во двор, как Самуил мигом исчез, будто сквозь землю провалился.
Охима прошептала:
– Чую недоброе.
Герасим улыбнулся:
– Всего-то ты боишься! Никому-то ты не веришь!
И только что Андрейка захотел тоже посмеяться над Охимой, как их окружили вооруженные люди и плетьми погнали к низкому бревенчатому сараю. Герасим и Андрейка пробовали отбиваться, но, получив сильные удары палкою по голове, притихли. Всех троих втолкнули в сарай и заперли.
Ночью в темницу явился с фонарем приземистый, скуластый человек, стал допрашивать узников: кто они, откуда, на кого несут слово царю? Он слушал ответы парней, беспокойно вращая белками и кусая свои громадные черные усы.
– На Колычева?.. На Никиту Борисыча? Ах, проклятые! – злобно произнес он как бы про себя и плюнул сначала в лицо Андрея, а затем Герасима.
Андрей не стерпел, сорвался с места, сгреб в свои могучие объятия обидчика, повалил его, потушил фонарь. Герасим и Охима помогли парню. Надавали усатому тумаков, связали его, заткнули рот тряпкой и, закрыв дверь, тихо выбрались в сад. Засуетились, нащупывая место, где бы можно было перелезть через ограду. Но только что Герасим с товарищем очутились на воле, как в усадьбе князя поднялась тревога. Охима не успела выбраться наружу. Осталась внутри двора.
На улицу выбежала толпа сторожей в погоню за парнями. Они бежали им в обход, размахивая бердышами.
Андрейка и Герасим принялись кричать о помощи.
Из ближайшего проулка неожиданно выскочили верховые стрельцы. Княжеская стража обратилась в бегство.
Стрельцы окружили парней. Один из всадников слез с коня и близко подошел к ним. Удивленные до крайности Герасим и Андрей узнали в нем Василия Грязного, того самого дворянина, который приезжал в колычевскую вотчину.
Грязной расспросил их, как они из тех далеких краев попали в Москву и что с ними приключилось здесь, в царском Кремле. Герасим толково, по порядку, все рассказал и про Охиму напомнил, которая осталась во дворе князя Владимира Андреевича.
Снова вскочил на коня дворянин Грязной и повел свой отряд к воротам княжеской усадьбы. Одного стрельца оставил караулить беглецов.
Охима была освоБождена из княжеского плена. Она шла, окруженная всадниками, и весело смеялась.
Грязной приказал парням и Охиме следовать за ним. Через огромную кремлевскую площадь отряд двинулся к большому государеву двору.
Андрейка шел вслед за стрельцами и обтирал кровь на щеке.
– Дьявол, всю харю, княжеский пес, искарябал! – ворчал он. – Ну, уж я ему ребра помял… Жирный какой, лешай!.. Знать, балованный… Не как мы!
– Я тоже его погладил… – усмехнулся Герасим. – Куда вот теперь– то нас ведут?
– Лишь бы жизни не лишили… Погрешить охота! – вздохнул Андрей. – Повеселиться в Москве.
Охима подарила ласковый взгляд Андрею (уже не первый).
Грязной был доволен всем случившимся. Когда-то и он служил у князя Владимира Андреевича. Зная, что государь недолюбливает князя, он перешел на службу к царю, чем и доказал свою преданность Ивану Васильевичу. С тех пор он был поставлен царем как бы в охрану к князю. На самом деле обо всем, что узнавал о князе, доносил царю. И вот теперь… «Будет потеха!» – весело и озорно подсмеивался он, поглядывая на своих пленников.
VВ кремлевских хоромах царского советника, благовещенского попа Сильвестра, много цветов, много солнца, много людей, тихие разговоры.
Придет ли какой наместник, либо воевода из уезда, – тотчас же к Сильвестру; вздумает ли кто из вельмож обратиться к государю, непременно побывает у Сильвестра: «в духе или не в духе Иван Васильевич, худа бы не вышло от того челобитья?» (Кстати не лишнее поискать и заступничества всесильного советника.) О многом толковалось у Сильвестра. Много у него было «своих людей», подслушивавших, что говорят на базарах, в церквах, в кабаках… При царском дворе у него тоже были «свои люди» – доносили обо всем, что слышно было и что делалось в царских хоромах. Особенно следили за царицей. Каждый шаг, каждое слово царицыно становилось известными в этом доме. На всю Москву была знаменита «сильвестрова келья».
В этот день келью посетил один новгородский поп, с которым когда-то давно, в юности, дружил советник.
– Здравствуй, отец Кирилл! Каким ветром тебя занесло? – облобызав земляка, приветствовал его высокий, худощавый Сильвестр.
– Дорогой мой, батюшка Сильвеструшко!.. Да какой же ты стал! О Господи! Десять зим тебя не видывал. Подобрел, а гляди, ряса-то, ряса… шелковая! А крест! Дай поцелую его.
Поп поклонился, облобызал крест, а кстати и руку Сильвестра.
– Такова милость Божия. Убогий пришелец из Великого Новгорода стал первым советником у царя! Тесен путь, ведущий к жизни. Все от Бога.
Поп рыдающим голосом воскликнул, крепко обеими руками ухватившись за руку Сильвестра:
– Да Господи! Кто же того не думал? Ведь ты же у нас один такой. Во смирении – удалой, в тихости – орел! Сызмала не силой ты брал, а умением… Молчал, а народ слушал тебя более глаголющих. Сильвеструшко! Родной! Дай наглядеться на тебя!
Сильвестр свысока обозревал попа с легонькой усмешкой.
– Полно, друже! Полно, смирением бо служу царю и святой церкви. В кротости – дальше от пропасти. Вспомни царя Давида и кротость его.
– Плохо мы грамотны, батюшка! Неучены. Так живем, по привычке.
– Сказывай, друже, почто прибыл в Москву?
– Истинный Бог! Токмо к тебе! С поклоном.
– Чего ради? – нахмурился Сильвестр.
Поп приблизился к его уху и прошептал, сморщив от волнения лицо:
– Трепещут торговые люди! Богачества стали бояться! Москвы остерегаются… Нарядили меня к тебе: просить, батюшка, умаливать. И то уж народ новгородский приуныл… Горько и торговым людям. Волюшки им нет прежней. А тут, не дай Бог, война, да еще с Ливонией. В наш край войско погонят. Испокон века наши купцы заодно с немцами, выгоду от них имеют. Москва с ними не ладит, а наш купец ладит. Как же быть-то, Сильвеструшко, ужель ты забыл? И што будет? К добру ли то? Заступись за земляков, за торговых людей, при случае!
Сильвестр в задумчивости поглаживал свою жиденькую бороденку. Карие проницательные глаза смотрели на попа холодно.
– Кто подослал тебя ко мне?
– Родичи твои и земляки, премудрый Сильвеструшко! Новгородские люди, православные, прислали!
– Помни, земляк! По человечеству я – равный вам, может, и хуже вас, но… как советник царя, не могу я встать на одну половицу с вами, с тобой… Прискорбно видеть советнику государеву, чтоб дела его были добычею мышей. Ты меня назвал орлом, но достойно ли орлу ютиться в одной норе с мышами? И не пожрет ли он их? Со мной лукавить опасно. Не попам и гостям[18] новгородским пещись о судьбе царства, а Богу и великому князю. Москва супротив немцев, и новгородские гости должны так же. Москва растет, и вы должны помогать ей, а не мудрить лукаво. Москва – мать городов. Уходи и помалкивай, что был у меня. Я мог бы отдать тебя на пытку… Но Бог тебе судья! Отпущу без спроса. Уходи и больше не бывай! А землякам передай: пускай одолеют алчность и гордыню!
Поп растерялся, в страхе попятился, кланяясь Сильвестру до самого пола.
– Прости, Сильвеструшко, прости! Не знал я, батюшка… не знал!
Сильвестр с укоризной в глазах покачал головой:
– Бедные! Приходят ко мне, земляками моими величаются, поминают дни отрочества, глядят мне в очи, а того не знают, что большая польза им была бы от беседы с простым смердом, нежели со мной. Я смотрю на тебя – и не вижу тебя, слушаю – и не слышу тебя! Не земляки мне нужны, а дела большой правды, коей служат сыны великой силы, люди, отрекшиеся не токмо от земляков и родного города, но и от матери, отца, жены и детей. Несчастный! Передай новгородцам: Сильвестр – верный слуга московского великого князя. Нужды царства для него выше нужд кичливой толпы новгородской. Иди, я отведу тебя в чулан, там и ночуй, а завтра утресь, затемно, уходи от меня… вернись в Новгород. Бог с тобой!
Поп поклонился, почесал за ухом и с красным недоумевающим лицом, тяжело вздохнув, кротко последовал за Сильвестром.
Оставшись один, Сильвестр опустился на колени перед аналоем, на котором лежали крест и Евангелие, и принялся усердно молиться.
Постучали в дверь.
Вошел Адашев Алексей. Стройный, крепкий, высокого роста, краснощекий молодой человек. Помолился и он. Взгляд какой-то растерянный.
Облобызались.
– Ну, что поведаешь, брат?
– Войны с Ливонией не минуешь. Аминь!
– Ого! – покачал головою Сильвестр. – Да может ли то быть? Ужель?!
– На обеде в Большой палате[19] был я… Слышал, как великий князь беседовал с казацким атаманом. Говорил он с ним о том, много ли всадников дадут казаки.
– Н-ну?
– И тут он прямо сказал о войне… Висковатый уже и грамоту новую, мол, сготовил…
Сильвестр тяжело вздохнул:
– Лишние мы стали?.. Без нас обходятся? А? Мамка Агафья донесла, будто Иван Васильевич молвил: «Восхитил поп власть. Завел дружбу со многими мирскими, сдружился с Алексеем, опричь меня именем моим править хотят… Мне же оставили токмо честь „председания“…»
Адашев усмехнулся:
– Изменчивый нрав… опасный. Не пойму я государя. То весел, добродушен, то лют и несговорчив.
– Кто ныне… около него?
– Худородные дворяне оттеснили всех, да дьяки посольские… да иноземцы, да нехристи… Народу нового много нахлынуло. Вчера к трапезе званы были две тыщи татар… Шиг-Алей с ними и казаки. Напились. Песни по-своему выли.
Сильвестр остановил испытующий взгляд на Адашеве:
– Ты был?
– Был.
– Табе неча, Алексей, роптать. Ты в чести у царя, а братенек твой Данила и вовсе по сердцу царю… большой воевода. Гнев на одну мою голову!.. Постоянно так. Найди близ царя человека, кой не осуждал меня в угожденье. Злословие стало обычаем, и кто может удержаться, чтоб не потешить царя поклепом на меня? И ты… мой друг… удержишься ли? Не искусишься ли? Иван Васильевич своим приятством и лаской многих покорил… И людей моей стороны. Он умеет.
– Но, отец Сильвестр… И к тебе царь явной опалы не кажет. А кто за глаза поносит тебя, тот боится тебя, кто хвалит тебя в глаза – тот лукавит… Тебе неча Бога гневить. Ты силен!
– Чем я провинился перед Иваном Васильевичем? – продолжал Сильвестр, как бы не слыша Адашева. – Не уразумею! Буде спорим мы? А в споре каждый и прав и виноват. Он упрекнул меня, что держусь я старины, я сказал ему, что некоторые новины царства разрушали. И я первый боролся за новины, за те, кои разумнее старых, поистрепавшихся обычаев. Болею я о государстве, а не о себе. Много ли мне надо? Я не искал ни славы, ни богатства, как и ты. Чего хотим мы? Сделать сильными и царя и царство. По ночам стала сниться мне плаха, а утром я иду к нему и говорю, чтобы не забывал он своего Божьего призвания. Говорю смело, угрожаю ему Божьим наказанием. На его лице тоска, но я не могу скрыть того, в чем вижу правду. Не могу ради страха льстить юному владыке… Таков путь честных правителей – либо путь, ими избранный, либо темница и смерть. Мудрый человек должен огорчаться тем, что он бессилен сделать добро, но не огорчаться тем, что люди хулят его, неправедно судят о нем… И ты, Алексей, не льсти Ивану Васильевичу, не делай тем самым худа государству.
Адашев пожал плечами, покраснел.
– Жизнь наша коротка, но в этой краткости человек может сделать свое имя вечным… Его будут благословлять отдаленные потомки… Только о том и молю я Господа Бога, чтобы прожить мне свой ничтожный век в правде, достойно и нелицеприятно. И кто упрекнет меня в лести? Кто более меня прямит царю? Да и кто может обмануть государя? Не знаю человека прозорливее Ивана Васильевича.
– То-то!
Улыбнувшись ласково, Сильвестр похлопал Адашева по плечу.
– Бог благословит тя на добрые дела! Против Ливонской войны, видать, нам не сдержать великого князя. Как горный поток, неудержим он в своем намерении. Но мы с тобой должны взять на попечение дела не воинские, но обыденные, они важнее для нас и друзей наших, нежели ратные дела. Пускай будет царь занят войной… Запомни: излишнее стремление к достижению чего-либо одного делает человека слепым ко всему другому. Государство нуждается в нас с тобой. Будем зоркими и сильными в уездах и городах… Ну, а что князь Андрей Курбский?
– Не унимается… хочет с царем говорить… Теперь о ногайской орде. Новое задумал. С Литвой и Польшей свары боится. Не хочет. А я буду стоять в стороне. Не вмешиваться до поры до времени. Не перечить царю. Приказы его исполнять без прекословия.
Долго беседовали Сильвестр и Адашев о том, какие последствия для бояр и дворян будет иметь эта страшная война. Сильвестр высказал большое беспокойство за Новгород. Война может опять противопоставить Новгород Москве, навлечь царский гнев на тамошнее купечество, поссорить Новгород с исконными друзьями его – лифляндцами и шведами. «Да минует нас чаша сия!» – вздохнул Сильвестр.
Перед уходом Адашев сказал:
– Об одном еще хотел я тебе доложить. Приключилось неладное. Беда случилась с Владимиром Андреевичем! Стража его перехватила вчера доносчиков, беглых мужиков из колычевской вотчины, не хотели допустить до царя, а Васька Грязной отбил их… Государю все станет известно. Он и так косится на колычевский род. Жалко князя Владимира… И без того уж он в опале… А эти щенки, льстецы – Грязные, Басмановы, Вешняковы, Субботины, Вяземские, Кусковы и другие, – только того и ждут, чтоб распалить сердце царево против брата Владимира… Грязной – чистый разбойник. И в вотчину к Колычеву неспроста ездил… Подтачивает, как червь, боярский сан.
– Сия новоявленная орда дворян вся такая. Своею дерзкой удалью они неспроста тешат царя. Ладно. Попомню. За Колычева постоять надо… И без того много зла кругом! Почто губить человека? Лиха беда одному поддаться, как навалится горе и на другого и на третьего. Положим конец злобе, Алексей! Образумим царя! Изводить надо доносчиков втихомолку, без шума.
Перед расставанием Сильвестр и Адашев снова облобызались.
* * *В покоях князя Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата царя Ивана, полумрак. Неугасимая лампада едва теплится перед большим образом Нерукотворного спаса.
– И кто такие думные дворяне? – уныло, скрипуче звучит голос Евфросинии, матери князя. Она совсем утонула в глубоком кресле.
Около образов, из сумрака, выступает хилое лицо самого князя. Оно бледно, глаза блестят, кажутся лихорадочными, больными.
– Такова воля его милости, Ивана Васильевича… Он ввел в Боярскую думу дворян и дьяков.
– Робок ты, Владимир, робок! – вздохнула княгиня Евфросиния. – Остановил бы его… Обида всем от него. Охрабрись!
– Был я храбр по твоему наущению в дни Иоановой болезни… собирал бояр и детей боярских на своем дворе, денег немало раздал им, а потом… все присягнули не мне, а царевичу Дмитрию… И я перед царем остался посрамленным, виноватым… Надругался над общею скорбью, слушая вас, и теперь нет веры мне… Дворяне в ту пору оказались честнее нас, честнее бояр… И теперь сильнее они, а не мы. Во все кремлевские щели набились худородные, будто тараканы… И вот в Боярскую думу влезли и там теперь сидят, как и мы. Такова царская воля… Что поделаешь! Сами мы виноваты!
– Гибнем! Слыханное ли дело, чтоб дворяне сидели в Думе? – крикнула княгиня. – Креста на них нет… Святую древность, старину дедовскую попирают они своими сапожищами… Что им старина? Что им благородство предков? Из ничтожества явились они! Кто их отцы? Кто их деды? Псарями и то недостойны были у нас служить!
Голос Евфросинии постепенно превращался в громкий, озлобленный крик, пугавший самого князя.
– Тише! – шептал он, махая на мать руками. – Тише! Погубите нас! Остановитесь!
– Трус! – прошипела старуха. – Хоть бы король образумил этого беса!
– Король? – горько усмехнулся князь Владимир. – Вон князь Ростовский Сема хотел сбежать в Литву с братьями и племянниками… Продался Августу, открыл ему все государевы тайны, все выдал, что знал, чернил Ивана и Русь, сидя в Москве, отослал в Польшу своего ближнего – князя Никиту Лопату-Ростовского, – все делал для короля, а что после? Сами же бояре за измену приговорили его к казни… А государь, красуясь добротой, пожалел его, простил, отменил казнь. Вечный позор Семке, и только! Вот тебе и король. Опасно надеяться на Литву.
Тяжело вздохнула старуха-княгиня.
– Э-эх, как вы все близоруки! Не верю я доброте его! Хитрит он! Для показа все это. Оставляет врагов живьем для сыску же! А тебя боится. Знаю, боится!
– Чего бояться меня? – тихо засмеялся Владимир Андреевич. – У меня токмо сотня воинов, у него – все русское войско.
– У тебя друзья – все царские советники и воеводы. О тебе Богу молятся и бояре, и священство, и черный люд; заволжские старцы, сам Вассиан за тебя Ивана проклинает… Князь Курбский за тебя, вместе с нестяжателями[20] заодно. Многие князья за тебя, а за него кучка ласкателей бояр, вроде Воротынского и Мстиславского, и толпа холопов – дворянская голь, подобная перебежавшему от нас к нему Ваське Грязному… да еще митрополит Макарий, выживший из ума дед…
– И все-таки, матушка, их много больше… И народ его больше знает, нежели меня.
Во время этих слов князя раздался негромкий стук в дверь. Мать и сын вздрогнули. Дверь распахнулась, и в палату вошли друзья князя Владимира Андреевича, некогда ратовавшие перед народом за возведение его на престол вместо царевича Дмитрия, – князья Дмитрий Федорович Телепнев-Овчинин-Оболенский (прозванный при дворе «Овчиной»), Михаил Петрович Репнин – волосатый, свирепый человек, наводивший ужас на своих дворовых, Александр Борисыч Горбатый-Суздальский, Петр Семенович Оболенский (Серебряный), Владимир Константинович Курлятев, боярин Иван Петрович Челяднин, Телятьев и многие другие князья и бояре.
В палате стало сразу тесно и душно.
Отдуваясь и вздыхая, князья помолились на иконы, затем отвесили низкие поклоны приподнявшемуся с своего места князю Владимиру Андреевичу.
– Милость Божия да будет с вами, государь Владимир Андреевич и добрая княгиня, государыня наша, Евфросинья Андреевна! Бьем мы вам челом! – сказали князья.
Владимир Андреевич попросил своих гостей садиться. Вдоль стен на скамьях ощупью усаживались князья-бояре.
Первым заговорил князь Семен Ростовский, заговорил тихо, полушепотом:







