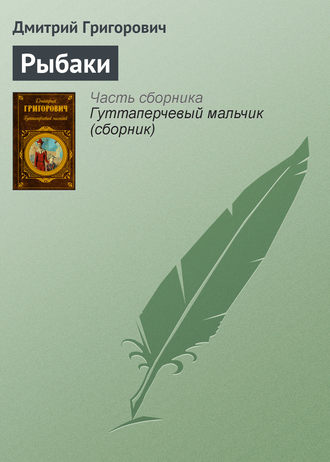
Полная версия
Рыбаки
– Живем по милости царицы небесной… Ну, а ты как, родимый? Откуда тебя бог несет?
– А из Сосновки, матушка, из Сосновки… О-ох, вас пришел проведать. Пойду-ка, мол, погляжу, говорю…
Аким поднял глаза и тут же остановился, увидев в воротах грозную фигуру Глеба Савинова.
Солнце освещало рыбака с головы до ног и позволяло различать тончайшие морщинки на высоком лбу его. То был рослый, плечистый мужик, с открытым, румяным лицом, сохранившим энергическое, упрямое, но далеко не грозное выражение. Черты его были строги и правильны; но они как нельзя более смягчались большими светло-серыми быстрыми глазами, насмешливыми губами и гладким, необыкновенно умным лбом, окруженным пышными кудрями черных волос с проседью. Наружность его принадлежала скорее весельчаку, чем человеку сурового, несообщительного нрава. Со всем тем стоило только взглянуть на него в минуты душевной тревоги, когда губы переставали улыбаться, глаза пылали гневом и лоб нахмуривался, чтобы тотчас же понять, что Глеб Савинов не был шутливого десятка. В настоящую минуту он находился, по-видимому, в отличнейшем настроении духа. Поддерживая обеими руками новенькие верши, которые торчали у него под мышками, он весело пошел навстречу гостю.
Жена дала ему дорогу и поспешила закрыть фартуком сына, который принялся было закусывать вторым жаворонком.
– А-а-а! Здорово, сватьюшка! Добро пожаловать! – воскликнул рыбак, насмешливо тряхнув головою.
– Здравствуй, Глеб Савиныч! – сказал Аким таким голосом, как будто он только что лишился отца, матери и всего имущества.
– Здравствуй, сватьюшка!.. Ну-ну, рассказывай, отколе? Зачем?.. Э, э, да ты и парнишку привел! Не тот ли это, сказывали, что после солдатки остался… Ась? Что-то на тебя, сват Аким, смахивает… Маленько покоренастее да поплотнее тебя будет, а в остальном – весь, как есть, ты! Вишь, рот-то… Эй, молодец, что рот-то разинул? – присовокупил рыбак, пригибаясь к Грише, который смотрел на него во все глаза. – Сват Аким, или он у тебя так уж с большим таким ртом и родился?
– Накричал, Глеб Савиныч! – простодушно отвечал Аким.
– Что ж так? Секал ты его много, что ли?.. Ох, сват, не худо бы, кабы и ты тут же себя маненько, того… право слово! – сказал, посмеиваясь, рыбак. – Ну, да бог с тобой! Рассказывай, зачем спозаранку, ни свет ни заря, пожаловал, а? Чай, все худо можется, нездоровится… в людях тошно жить… так стало тому и быть! – довершил он, заливаясь громким смехом, причем верши его и все туловище заходили из стороны в сторону.
– Нет, Глеб Савиныч, что ж мне от людей бегать… Кабы не…
– Скажешь небось: люди виноваты?
– Свет ноне не тот стал, Глеб Савиныч, вот что! – произнес со вздохом Аким. – Я ли отлынивал когда от дела? Я ли не был работником? Никто от меня и синя-пороха не видал, не токмо другого худого дела какого, – а все я во всем повинен… Нет, свет ноне не тот стал, Глеб Савиныч: молодых много оченно развелось – вот что! Вот хошь бы вечор: пришел я в Сосновку, прожил там восемь ден; бился, бился – норовил ихнее стадо стеречь. «Я ли, говорю, не пастух? Я ли эвтаго дела не ведаю?..», а они все свое… Взяли да молодого и найми! О-ох, такая уж, знать, моя сиротская доля!.. Ну, как вышло у меня это дело, я и мерекаю так-то себе: пойду-ка, говорю, понаведаюсь к… Глебу Савинычу… с родни он мне… авось, говорю, взмилуется он надо мною… Глеб Савиныч! Будь отцом родным! – промолвил Аким, низко кланяясь и нагибая левою рукою голову Гришки, – Глеб Савиныч, пособи, кормилец!
Но рыбак сделал вид, как будто не слыхал последних слов Акима: он тотчас же отвернулся в сторону, опустил на землю верши и, потирая ладонью голову, принялся осматривать Оку и дальний берег.
– Эк, какую теплынь господь создал! – сказал он, озираясь на все стороны. – Так и льет… Знатный день! А все «мокряк»[2] подул – оттого… Весна на дворе – гуляй, матушка Ока, кормилица наша!.. Слава те, господи! Старики сказывают: коли в Благовещение красен день, так и рыбка станет знатно ловиться…
Во время этого монолога жена Глеба и дядя Аким не переставали моргать и подавать друг другу знаки; наконец последний сделал шаг вперед и кашлянул.
– Чего тебе? – нехотя спросил рыбак.
– Батюшка, Глеб Савиныч, пособи, кормилец!
– Экой ты, братец ты мой, какой человек несообразный! Заладил: пособи да пособи! Застала, знать, зима в летней одежде, пришла нужда поперек живота, да по чужим дворам: пособи да пособи! Ну, чем же я тебе пособлю, сам возьми в толк!
– Ты только выслушай, что я скажу тебе…
– А что слушать-то?
– Да выслушай только… Матушка, Анна Савельевна, хоть ты взмилуйся; скажи ты ему…
Старуха взглянула на мужа, но тотчас же понурила голову и стала перебирать складки передника.
– Ну, ступай в избу! – сказал рыбак после молчка, сопровождавшегося долгим и нетерпеливым почесыванием затылка. – Теперь мне недосуг… Эх ты! Во тоске живу, на печи лежу! – добавил он, бросив полупрезрительный-полунасмешливый взгляд на Акима, который поспешно направился к избе вместе со своим мальчиком, преследуемый старухой и ее сыном.
Глеб Савиныч проводил его глазами; наконец, когда дядя Аким исчез за воротами, рыбак сделал безнадежный жест рукой и сказал, выразительно тряхнув головой:
– Пустой человек!
Затем он приподнял свои верши, сунул их под мышку и решительным шагом направился к берегу, где виднелись две-три опрокинутые лодки и развешанный, сушившийся на солнце бредень.
III
Семейство рыбака
Семейство рыбака было многочисленно. Кроме жены и восьмилетнего мальчика, оно состояло еще из двух сыновей. Старший из них, лет двадцати шести, был женат и имел уже двух детей. Дядя Аким застал всех членов семейства в избе. Каждый занят был делом.
У входа располагался второй сын, юноша лет девятнадцати. Он представлял совершеннейший тип тех приземистых, но дюжесплоченных парней с румянцем во всю щеку, вьющимися белокурыми волосами, белой короткой шеей и широкими, могучими руками, один вид которых мысленно переносит всегда к нашим столичным щеголям и возбуждает по поводу их невольный вопрос: «Чем только живы эти господа?» Парень этот, которому, мимоходом сказать, не стоило бы малейшего труда заткнуть за пояс десяток таких щеголей, был, однако ж, вида смирного, хотя и веселого; подле него лежало несколько кусков толстой березовой коры, из которой вырубал он топором круглые, полновесные поплавки для невода. Наружность старшего сына, Петра, была совсем другого рода: исполинский рост, длинные члены и узкая грудь не обещала большой физической силы; но зато черты его отражали энергию и упрямство, которыми отличался отец. Сходства между ними было, однако ж, мало. Лицо Петра сохраняло мрачное, грубое выражение, чему особенно способствовали черные как смоль волосы, рассыпавшиеся в беспорядке, вдавленные черные глаза, выгнутые густые брови и необыкновенная смуглость кожи, делавшие его похожим на цыгана, которого только что провели и надули. Петр и жена его, повернувшись спиной к окнам, пропускавшим лучи солнца, сидели на полу; на коленях того и другого лежал бредень, который, обогнув несколько раз избу, поднимался вдруг горою в заднем углу и чуть не доставал в этом месте до люльки, привешенной к гибкому шесту, воткнутому в перекладину потолка. Тонкая бечевка, привязанная одним концом к шесту, другим концом к правой руке жены Петра, позволяла ей укачивать ребенка, не прерывая работы (простой этот механизм придумал Глеб Савинов, строго наблюдавший, чтоб в доме его никто не бил попусту баклуши). Второй ребенок рыбака Петра, вооруженный ломтем хлеба, которого стало бы на завтрак тридцатилетнему батраку, валялся на неводе, в двух шагах от матери.
Петр, его брат и жена изредка перекидывались словами; все трое, особенно Петр, были как словно чем-то недовольны. Починка невода подвигалась вперед, поплавки умножались под топором Василия (так звали второго сына); но видно было, что работа шла принужденно. Василий часто опускал топор, садился на корточки и, толкнув дверь, устремлял глаза в сени, из которых можно было обозревать часть двора и ворота, выходившие на Оку. Петр реже отрывался от дела; он вязал петлю за петлей и, несмотря на неудовольствие, написанное на каждой черте смуглого лица его, быстро подвигал работу. Время от времени подталкивал он локтем жену, которая, условившись, вероятно, заранее в значении этих толчков, поспешно вставала и принималась глядеть в окно. Посла этого она завертывала обыкновенно, как бы по дороге, к люльке и снова усаживалась к неводу.
Появление постороннего лица естественным образом должно было оживить присутствующих. Этому сильнейшим образом содействовала старушка Анна. Она не на шутку обрадовалась своему гостю: кроме родственных связей, существовавших между нею и дядей Акимом – связей весьма отдаленных, но тем не менее дорогих для старухи, он напоминал ей ее детство, кровлю, под которой жила она и родилась, семью – словом, все те предметы, которые ввек не забываются и память которых сохраняется даже в самом зачерствелом сердце. Оживленная воспоминаниями, она осадила дядю Акима вопросами, обласкала его и, не зная уже, чем бы выразить свою радость, принялась снаряжать для него завтрак. Между тем Петр и Василий, встречавшиеся уже не в первый раз с Акимом, вступили, слово за словом, в разговор. Сначала послышались расспросы о том, как поживают там-то и там-то, что поделывает тот-то, каковы дороги, что говорят на стороне, и проч. и проч.; наконец речь завязалась и сделалась общею. Младший сынишка Глеба, смотревший до того времени с каким-то немым притупленным любопытством на спутника Акима, продолжавшего дико коситься на все окружающее, подсел к нему ближе, начал улыбаться и даже вынул из-за пазухи дудку из муравленой глины. Но все эти попытки первоначального ознакомления были вскоре прерваны старушкой, неожиданно явившейся из-за печки с горшком в одной руке, с чашкой и ложками – в другой. Суетливо перекидывая то одну ногу, то другую через невод, который шел изгибами по всему полу, она добралась наконец до стола.
– Прикушай, батюшка, прикушай, Акимушка, – промолвила она, ставя свою ношу на стол, – я чай, умаялся с дороги-то? Куды-те, я чай, плохи стали ноне дороги-то! Парнишечке-то положи кашки… потешь его… Сядь поди, болезный… А как бишь звать-то его?
– Гришутка, матушка Анна Савельевна, Гришутка!
– Сядь поди, Гриша, сядь, соколик!
– Ах ты, матушка ты наша! Ах, ах! Анна Савельевна, как нам за тебя бога молить! Ах ты, родная ты наша! – воскликнул Аким, разводя руками и умиленно взглядывая на старуху.
Язык Акима, смазанный жирною ячменной кашей, ободренный ласковым, приветливым приемом, скоро развязался и замолол без устали: дядя Аким, как уже известно, не прочь был покалякать. Не прерываясь на этот раз охами и вздохами, которые, за отсутствием грозного Глеба Савинова, были совершенно лишними, он передал с поразительною яркостью все свои несчастия, постигшие его чуть ли не со дня рождения. Из слов его оказалось, что свет переродился и люди стали плохи с того самого времени, как он лишился имущества и вынужден был наниматься батраком. Он ли не был работником? Он ли не старался? Нет! Не только никто не дал цены ему, но даже никто не сказал: спасибо! Затем дядя Аким перешел к воспоминаниям более современным и, пропустив почему-то житье свое у покойной солдатки, принялся пояснять настоящее свое положение. Он повторил вчерашнюю историю свою с сосновскими мужиками и объявил, что вот так и так, коли не вступится теперь Глеб Савиныч, коли не взмилуется его сиротством, придется и невесть за что приниматься.
– Да мне что! Куда бы еще ни шло! Пропадай, старая собака: туда и дорога! – примолвил он, махнув рукою. – Не о себе толкую… Вот кого жаль! – подхватил он, указывая на Гришку. – Его хотелось бы пристроить, к какому-нибудь делу произвести… И то сказать: много ли съели бы мы хлеба у Глеба Савиныча! Много ли нам надыть? Ведь не то чтобы даром, братцы, не даром же, матушка Анна Савельевна! Знамо, не стал бы лежать на печи: послать куда, сделать ли что – во всем подсобил бы ему… Я ли не работник! Ну, вот и паренечек также. Вестимо, он теперь махочка: взять нечего; ну, а как подрастет, произойдет ваше рыбацкое рукомесло, так и он также подмогать станет… Я ведь не даром прошусь. Вот об этом-то более и хотел поговорить с Глебом Савинычем… Да вишь ты, он какой крепкий!.. А чего бы, кажись, ему отнекиваться? Я ведь не из-за денег, не из платы бьюсь: только из хлеба и хлопочу…
При этом Петр сомнительно покачал головою.
– Да поди, столкуй с ним, с отцом-то! Ты ему свое, а он те свое, – произнес он, поворачивая к гостю свое смуглое недовольное лицо, – как заберет что в голову, и не сговоришь никак! Хошь бы теперь в моем деле: уперся – нет да нет! А что нет?.. Вот теперь верстах во ста отселева звал меня хозяин – также рыбною ловлей промышляет: только куды! Богач: верст на сорок снял берега, да еще три озера нанимает; места привольные, заведение большое, и рыбы много… Тысяч на пять, сказывают, в одну Коломну рыбы-то продает!.. Ну так вот, звал он меня к себе, и деньги дает хорошие. Говорю намедни отцу: нет да нет, только и слышал! Ну, а что нет-то? Ведь ему же стал бы носить деньги. Положим, хозяин дал бы мне полтораста в год (сам сулил столько): ну все же в дом принес бы, по крайности, сколько-нибудь… А теперь что? Что живу я здесь, что нет меня, никакого толку: смерть прискучило! К тому же своя семья на руках, дети: мало ли нужда какая бывает!.. Скажешь отцу, бранится… «Пропьешь», говорит, либо другое что вымолвит. Живешь как словно в ту пору, когда на карачках ползал… Смерть прискучило! Вот хоть бы сама матушка: на что, кажись, тошно ей с нами расставаться, и та скажет: здесь делать мне нечего! Заведение малое – так только кормиться можно… Работа пустая, лов плохой… Останься один брат Вася, и тот управится; а найми он работника подешевле, который… Ну, хоть бы вот возьми он тебя, так и за глаза. Нет же вот, поди! Стал на одном: нет да нет! Что хошь тут делай!
В эту самую минуту заскрипели ворота.
– Батюшка идет! – шепнула жена Петра, подсобляя старушке убрать со стола завтрак и бросаясь к неводу.
Все смолкли и усердно принялись за работу. Хозяйка, стоявшая уже у печки, гремела горшками как ни в чем не бывало.
На пороге избы показался старый рыбак.
Мы уже сказали, что Глеб Савиныч находился в отличном расположении духа; веселость его, несмотря на утро, проведенное в труде, нимало, по-видимому, не изменила ему.
– Хозяйка, – сказал он, бросая на пол связку хвороста, старых ветвей и засохнувшего камыша, – на вот тебе топлива: берегом идучи, подобрал. Ну-ткась, вы, много ли дела наделали? Я чай, все более языком выплетали… Покажь: ну нет, ладно, поплавки знатные и неводок, того, годен теперь стал… Маловато только что-то сработали… Утро, кажись, не один час: можно бы и весь невод решить… То-то, по-вашему: день рассвел – встал да поел, день прошел – спать пошел… Эх, вы!
– По сторонам не зевали, – пробормотал Петр, не подымая головы, – сколько велел, столько и сделали, коли не больше, – добавил он почти шепотом.
– Сделали, сделали! То-то сделали!.. Вот у меня так работник будет – почище всех вас! – продолжал Глеб, кивая младшему сыну. – А вот и другой! (Тут он указал на внучка, валявшегося на бредне.) Ну, уж теплынь сотворил господь, нечего сказать! Так тебя солнышко и донимает; рубаху-то, словно весною, хошь выжми… Упыхался, словно середь лета, – подхватил он, опускаясь на лавку подле стола, но все еще делая вид, как будто не примечает Акима.
– Я чай, умаялся, Глеб Савиныч, устал? – произнес дядя Аким заигрывающим голосом.
– Устал! А с чего устал-то? – полунебрежно-полупрезрительно возразил рыбак. – Нет, сват, нашему брату уставать не показано; наша кость не пареная; всякий труд на себя принимает… А и устал, не бог весть какая беда: поел, отряхнулся – и опять пошел!.. Хозяйка, ну-ткась, чем пустые-то речи говорить, пошевеливайся: давай обедать… пора… Сноха, подсоби ей… Постой, дай-ка мне наперед вон энтого парня-то, что из люльки-то кулаки показывает, – давай его сюда! Экой молодчина! Эки кулачищи-то, подумаешь! – заговорил рыбак, взяв внучка на руки и поставив его голыми ножками к себе на колени.
Во все время, как сноха и хозяйка собирали на стол, Глеб ни разу не обратился к Акиму, хотя часто бросал на него косвенные взгляды. Видно было, что он всячески старался замять речь и не дать гостю своему повода вступить в объяснение. Со всем тем, как только хозяйка поставила на стол горячие щи со снетками, он первый заговорил с ним.
IV
За щами и кашей
– Чего ж ты, сватьюшка? Садись, придвигайся! – весело сказал Глеб, постукивая ложкою о край чашки. – Может статься, наши хозяйки – прыткие бабы, что говорить! – тебя уж угостили? А?
Старуха, находившаяся в эту минуту за спиною мужа, принялась моргать изо всей мочи дяде Акиму. Аким взял тотчас же ложку, придвинулся ко щам и сказал:
– Маковой росинки во рту не было, Глеб Савиныч!
– Ну, так что ж ты ломаешься, когда так? Ешь! Али прикажешь в упрос просить? Ну, а парнишку-то! Не дворянский сын: гляденьем сыт не будет; сажай и его! Что, смотрю, он у тебя таким бычком глядит, слова не скажет?
– Знамо, батюшка, глупенек еще, – отвечал Аким, суетливо подталкивая Гришку, который не трогался с места и продолжал смотреть в землю. – Вот, Глеб Савиныч, – подхватил он, переминаясь и робко взглядывая на рыбака, – все думается, как бы… о нем, примерно, сокрушаюсь… Лета его, конечно, малые – какие его лета! А все… как бы… хотелось к ремеслу какому приставить… Мальчишечка смысленый, вострый… куды тебе! На всякое дело: так и…
– Что говорить! Всякому свое не мыто бело! С чего ж тебе больно много-то крушиться? Он как тебе: сын либо сродственник приводится? – перебил рыбак, лукаво прищуриваясь.
– Нет… кормилец, приемыш… – пробормотал дядя Аким, жалобно скорчивая лицо.
– Вот как, приемыш… Слыхал я, сватьюшка, старая песня поется (тут рыбак насмешливо тряхнул головою и произнес скороговоркою): отца, матери нету; сказывают, в ненастье ворона в пузыре принесла… Так, что ли?
Тут он залился смехом, но вскоре снова обратился к гостю:
– Ну, сказывай, о чем же ты хлопочешь?
– Дядюшка Аким говорит, ему, говорит, хочется произвести, говорит, паренечка к нашему, говорит, рыбацкому делу, – неожиданно сказал Василий, высовывая вперед свежее, румяное лицо свое.
– Ох ты: говорит, говорит! – с усмешкою возразил рыбак. – Что ж, дело, дядя Аким, – подхватил он, снова обращаясь к гостю, – наше ремесло не ледащее. Конечно, рыбаку накладнее пахаря: там, примерно, всего одна десятина – ходишь да зернышко бросаешь: где бросил, тут тебе и хлеб готов… Ну, нашему брату не то… Рыбаку ли, охотнику ли требуется больше простору; к тому же и зернышко-то наше живое: где захочет, там и водится; само в руки не дается: поди поищи да погоняйся за ним! С начатия, знамо, трудненько покажется; ну да как быть! Не без этого – привыкнет! Так-то и во всяком деле: тяжко сдвинуть только передние колеса, а сдвинул – сами покатятся!..
– Кабы твоя бы милость была, Глеб Савиныч, – жалобно начал Аким, – век бы стал за тебя бога молить!.. Взмилуйся над сиротинкой, будь отцом родным, возьми ты его – приставь к себе!..
– Куда мне его! У меня и своих не оберешься!
– Кормилец! – воскликнул Аким, подымая на рыбака слезливые глаза свои. – Вестимо, теперь он махочка! Способу не имеет, а подрастет – ведь тебе же, тебе работник будет!
– Коли в тебя уродился, так хоть сто лет проживет, толку не будет, – проговорил рыбак, пристально взглянув на мальчика.
– Батюшка, Глеб Савиныч, да что ж я такое сделал?
– А не больно много – об том-то и говорят!
Глеб окинул глазами присутствующих, посмотрел на младшего сына своего и снова устремил пристальный взгляд на Гришку.
– А который ему год? – спросил он после молчка.
– С зимнего Миколы восьмой годок пошел, батюшка, – поспешил ответить Аким.
– Стало, сверстник моему Ванюшке?
– Однолеточки, Глеб Савиныч, – отозвался Аким таким жалким голосом, как будто дело шло о выпрашивании насущного хлеба обоим мальчикам.
– Что же? – сказал немного погодя рыбак. – Пожалуй, малого можно взять.
– Как нам за тебя бога молить! – радостно воскликнул Аким, поспешно нагибая голову Гришки и сам кланяясь в то же время. – Благодетели вы, отцы наши!.. А уж про себя скажу, Глеб Савиныч, в гроб уложу себя, старика. К какому делу ни приставишь, куда ни пошлешь, что сделать велишь…
Неожиданный могучий смех Глеба прервал дядю Акима.
– Э… э… ох, батюшка!.. Так ты, сват, ко мне в работники пришел наниматься!.. О-о, дай дух перевести… Ну, нет, брат, спасибо!
– Зарок дал…
– Ой ли?
– Как перед господом! Провалиться мне!
Рыбак залился пуще прежнего.
– Ну, нет, сватьюшка ты мой любезный, спасибо! Знаем мы, какие теперь зароки: слава те господи, не впервые встречаемся… Ах ты, дядюшка Аким, Аким-простота по-нашему! Вот не чаял, не гадал, зачем пожаловал… В батраки наниматься! Ах ты, шутник-балясник, ей-богу, право!
При этом дядя Аким, сидевший все время смирно, принялся вдруг так сильно колотить себя в голову, что Василий принужден был схватить его за руку.
– Ах я, глупый! Ах я, окаянный! – заговорил он, отчаянно болтая головою. – Что я наделал!.. Что я наделал!.. Бить бы меня, собаку! Палочьем бы меня хорошенько, негодного!.. Батюшка, Глеб Савиныч, – подхватил Аким, простирая неожиданно руки к мальчику, мешаясь и прерываясь на каждом слове, – что ж я… как же?.. Как… как же я без него-то останусь?.. Батюшка!
– Твое дело: как знаешь, так и делай, – сухо отвечал рыбак. – Мы эти виды-то видали: смолоду напрял ниток с узлами, да потом: нате, мол, вам, кормильцы, распутывайте!.. Я тебе сказал: парнишку возьму, пожалуй, а тебя мне не надыть!
Аким опустил руки и повесил голову, как человек, которому прочли смертный приговор. Минуты две сидел он неподвижно, наконец взглянул на Гришку, закрыл лицо руками и горько заплакал.
Рыбак посмотрел с удивлением на свата, потом на мальчика, потом перенес глаза на сыновей, но, увидев, что все сидели понуря голову, сделал нетерпеливое движение и пригнулся к щам. Хозяйка его стояла между тем у печки и утирала глаза рукавом.
Несколько минут длилось молчание, прерываемое стуком одной только ложки.
– Вот что, Петрушка, – начал вдруг Глеб, очевидно с тою целью, чтоб замять предшествовавший разговор, – весна приходит: пора о лодках побеспокоиться… Ходил нынче смотреть – работы много: челнок вновь просмолить придется, а большую нашу лодку надо всю проконопатить. Сдается мне, весна будет ранняя; еще неделя либо две такие простоят, как нонешняя, глазом не смигнешь – задурит река; и то смотрю: отставать кой-где зачала от берегов. Тогда не до «посудины»[3], – присовокупил он, приходя постепенно в свое шутливое расположение духа, – знай только неводок забрасывай да рыбку затаскивай! А в рыбе (коли только господь создаст ей рожденье), в рыбе недостачи, кажись, быть не должно! По приметам, лов нынче будет удачлив!
Петр, упорно молчавший во все время обеда, провел ладонью по волосам и поднял голову.
– Ты, батюшка, и позапрошлый год то же говорил, – сказал он отрывисто, – и тогда весна была ранняя; сдавалось по-твоему, лов будет хорош… а наловили, помнится, немного…
– Чего ж тебе еще?.. Возами возить, что ли? – возразил отец довольно спокойно, чего никак не ожидали присутствующие, знавшие очень хорошо, что Глеб не любил противоречий, особенно со стороны детей. – Слава те господи, должны и за то благодарить… (Глеб жаловался между тем весь протекший год, что рыба плохо ловилась.) Покуда недостатка не вижу: сводим концы с концами; а что далее будет – темный человек: не узнаешь… Главное – требуется во всяком деле порядок наблюдать – вот что; дом – яма, стой прямо! Этим наш брат только и крепок!.. Вишь чего, возами возить захотел! Эх, ты, умница!.. Кабы с нашего участка, что нанимаем, рыбу-то возами возили, так с нас заломили бы тысячу, не то и другую… Сосновское общество знает счет: своего не упустит; а мы всего сто целковых за участок-то платим; каков лов, такая и плата… А ты как думал?..[4]
– Против этого я не спорю.
– Ну, то-то же и есть! А туда же толкует! Погоди: мелко еще плаваешь; дай бороде подрасти, тогда и толкуй! – присовокупил Глеб, самодовольно посматривая на членов своего семейства и в том числе на Акима, который сидел, печально свесив голову, и только моргал глазами.
– Я не о том совсем речь повел, – снова заговорил Петр, – я говорю, примерно, по нашей по большой семье надо бы больше прибыли… Рук много: я, ты, брат Василий… Не по работе рук много – вот что я говорю.
– Э, Петрушка! Вижу, отселева вижу, куда норовишь багром достать! Ловок, нече сказать; подумаешь: щуку нырять выучит… Жаль только, мелки твои речи, пальцем дно достанешь…
– Доставай, пожалуй; я тебе правду говорю.
– Ой ли? А хочешь, я тебе скажу, какая твоя правда, – хочешь? Ноги зудят – бежать хотят, да жаль, не велят… Все, чай, туда тянет? А?









