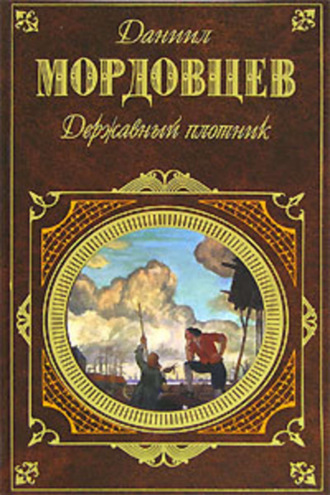 полная версия
полная версияДержавный плотник
– И того б тебе делать не довелось, и то тебе вина, – продолжал автоматически твердить воевода, так что даже Каргаска стал недоумевать: когда ж он ругаться-де начнет?
– А велит мне великий государь вины мои простить, и я грубство свое ему, великому государю, заслужу с лихвою: введу тебя, воеводу, со стрельцами в монастырь... Государь, смилуйся, пожалуй! – заключил Феклис и снова сделал поясной поклон.
– И не обманом хочешь нас под дурно подвести?
– Кака мне корысть подводить вас под дурно!
– И ты на том крест целовать будешь?
– И крест, и Евангелие целовать стану.
– Ладно. Надо об этом деле подумать.
Воевода почесал затылок, застегнул кафтан и вопросительно посмотрел на Киршу. Кирша нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
– А как ты ноне попал к нам? – снова обратился воевода к чернецу. – Как тебя выпустили?
– Я отай ушел, воевода.
– Как? Через стену?
– Нету, воевода: есть у меня там под землей заячья норка, норкою я и прополз.
– И ты нас хочешь оною норкою провести в стены?
– Нету, норкою не способно будет: узка гораздо, гладкой не пролезет.
– Так как же?
– Есть в стене место такое, проломное: с этой стороны его распознать нельзя, а я укажу.
– А дале что?
– Выломать камни, там не велика сила надобет.
– Ну, и что ж?
– В ночь выломаем, вот нам и ворота.
– И войдем?
– Ночью и войдем...
– Cонных, что щенят, заберем, лядиных детей! – Не вытерпел Кирша, брякнул радостно. Не вытерпел и Каргас: выскочил из-за сундука и ну радостно и неистово лаять то на воеводу, то на Киршу, то на сухого стрельца с серьгой и даже на незнакомого чернеца.
– Цыц, анафема! Цыц, клятой! Вот взбесился! – кричал воевода; но пес уж и его не слушал: он по глазам видел, что воевода рад, и неистово выражал свой собачий восторг.
* * *Кирша радостно потирал руки и ржал, глядя на Каргаску. Воевода шагал по палатке, отбиваясь от собаки, которая лезла целоваться. Феклис самодовольно, со злым выражением в красивых глазах, улыбался, навивая клок бороды на палец.
– И ты как перед Богом говоришь? – уставился воевода на чернеца.
– Как перед Богом!
– И укажешь место?
– За тем пришел, свою голову принес под осудареву плаху.
– И не величкой силой проломаем?
– Плевошное это дело будет.
– Ну, добро! И за то великий государь, его царское пресветлое величество, пожалует тебя таким жалованьем, какова у тебя и на уме нет.
Чернец поклонился, чтобы скрыть блеск глаз, говоривший о чем-то ином, только не о государевом великом жалованье.
– Что ж ты стоишь вороной! – вскинулся воевода на Киршу.
Кирша оторопел. Каргас тоже накинулся на него с лаем: воевода-де лает, так и мне следует.
– Беги живой ногой, веди попа с крестом и Евангелием, – пояснил воевода.
– Мигом, воевода! – икнул Кирша.
– Живо!
Каргаска с лаем кинулся за посланцем, и долго его радостный лай раздавался вдоль сонного берега моря, посыпаемого снегом.
XVI. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ «СОЛОВЕЦКОГО СИДЕНИЯ»
– Мама! Ты слышишь?
– Что, дитятко?
– Слушай, а? Кто-то плачет.
– Что ты, глупая, кому теперь плакать?
– Ох, мама! Мне страшно: я слышу, как кто-то плачет.
– Да это ветер в трубе, ноли не слышишь?.. А ты перекрестись, прочти молитву Исусову и спи.
Оленушка крестится, придерживая левой рукой рубашку, шепчет молитву и снова опускает свою растрепанную, со спутавшеюся косою голову на белую подушку. Тихо в келье. На дворе слышна вьюга. Сон так и клонит, тяжелит веки и туманит... Неупокоиха ровно посапывает...
– Мама! А мама!
– Ох, Господи Исусе! Ты что опять?
– Мне не спится... У меня, мама, мысли...
– Какие у тебя, у глупой, мысли! Ноне не каталась на салазках, пурга, ну и не спится.
– Завтра покатаюсь, с Иринеюшкой... А мои салазки лучше его...
– Не в пример лучше... Ну, спи, дитятко.
– А в Архангельском, мама, что теперь?
– Что, глупая! Спят.
– Батя спит?
– Нет, на салазках катается.
Оленушка смеется... Опять тихо, только вьюга завывает в трубе и под окном... Лампадка как будто вздрагивает... По стене словно тени какие ползут... слышен ровный сап... Где-то сверчок засверестит и смолкнет... Жутко Оленушке, нейдет сон, все что-то слышится в порываньях ветра за окном...
– Мама! Кто это стучит?
– Асинька? Ты все не спишь?
– А ты слушай, мама.
– Что мне слушать-ту? Тебя, дуру?
– Нету, мама, там стучит, слышишь?
– Это вьюга, ветер.
– А во что она стучит?
– А во что придется: в ставни, в било, у трапезы что висит.
– А как это, мама, мертвецы по ночам ходят?
– Что ты! Что ты, непутевая! С нами крестная сила, на нас кресты.
– А как же дедушка Спиря говорил, что к ему душенька ево Оленушки приходит?
– Что ты пустое мелешь, глупая? Какой Оленушки?
– А у него дочка была Оленушка.
– А! Ну, он святой человек, он видения в сониях видит.
– И я во сне все вижу, и Архангельской вижу часто, и батю, и как мы по грибы ходили.
– Ну, то-то же.
– А мне Исачко сказывал, что он сам лешего видел.
– А ты уж и с Исачком, глупая, подружилась!
– А как же, мама! В ту пору, как стрельцы шли на монастырь воропом, перед святками, и убили его турмана беленького «в штанцах», так мы с ним хоронили турмана, я плакала, плакала! И он, Исачко, плакал же.
– Было о чем дураку!
– Он, мама, не дурак, он добрый... И он сказывал, что часто видит во сне покойного турмана.
– Фу! С тобой точно одуреешь... Да спи ж ты, говорят тебе, сорока!
И Неупокоиха повернулась носом к стене и ухо заложила стеганым, полосатым, словно шашечная доска, одеялом. Скоро опять раздался ее сап, а Оленушка, полежав с закрытыми глазами, снова открыла их и стала смотреть на мигающие полосы на потолке: полосы шли от образов, от лампадки. Она задумалась об Архангельске: хотела вспомнить лицо Бори и не могла... Вот-вот, кажется, вспомнила, и, собственно, не его вспомнила, а то, как они грибы в лесу собирали, как нагнулись над одним грибом, как Боря взял ее руку, все это хорошо помнится: и как потом они потянулись друг к другу, как губы их слились и как коленями раздавили гриб, когда вырывалась, все это вспомнила она... но лица Бори никак не могла вспомнить... Это не его лицо, нет, это Иринеюшка... А вот и «архимандрит» Никанор на качелях качается, чудно что-то... И дедушка Спиря на салазках тут же... И Исачко за рога лешего ведет, леший его турмана поймал... Слышно, как стрельцы поют на берегу:
Разогнал ее малых детушек,Малых детушек, кукунятушек,Что по ельничку, по березнячку...– Ох, Господи! Что это такое?
Оленушка, задремавшая было, снова проснулась. Послышался стук, и словно бы какие-то камни повалились... Опять тихо, только ветер пошумливает. Лампадка гаснет... Скоро, должно быть, утро... Опять стучит... Это, верно, какой-нибудь трудник встал рано и дрова колет за поварней... А вот уже месяц прошел, как стрельцы, перед святками, на вороп ходили, да их кипятком отгромили от стен... Тогда и чернец Феклис пропал, как в воду канул. Спиря сказывал, что Феклиска к стрельцам перебежал... Какие глаза нехорошие, стыдные какие-то у этого Феклиса... У Исачки лучше, хоть и косые... А у Иринеюшки?.. На Дон хочет уйти... Зачем на Дон! Не надо!
Оленушка прислушивается... В монастыре что-то случилось: слышны голоса, стук, звяканье железом...
Оленушка вскочила: это уже не вьюга. Голоса явственно слышны... это голос Исачки... Еще голоса... Гул...
– Мама! Мамонька! Вставай!
– Ты что! Ты сдурела?
– Ох, нет! Слышишь?
На дворе уже ясно слышались крики сотен голосов...
– Батюшки! Владычица! Не пожар ли?
И мать, и дочь стали торопливо одеваться.
– Ах, Господи! Что ж это такое? Не стрельцы ли?
В окно застучал кто-то.
– Батюшки! Кто там?
Стук повторился, только не в окно, а в дверь.
– Вставайте! Пожар! Кельи горят!
– Владычица! Скорей, Олена! Ох, матушки!
Оленушка бросилась к дверям, едва успев накинуть на себя шубку... Двери распахнулись... В этот самый момент что-то темное накрыло ее, и сильные руки схватили поперек стана...
– Мама! Ой! О-о!
Что-то мягкое зажало ей рот, и голос ее замер в груди... В ужасе Оленушка чувствовала, что ее куда-то несут... Сзади слышались отчаянные крики, стук оружия, пальба...
Оленушка все поняла: монастырь взят... Но куда ее несут? Где мама? Где Иринеюшка?..
* * *– Ребятушки! Голубчики! Отстоим! – слышался отчаянный голос Исачки.
– Владыко многомилостиве! Помози! – стонал где-то несчастный Никанор.
– Сдавайтесь, старцы! Вам ничего не будет.
– Поздно, святые отцы, монастырь наш.
– Никого не бить! Слышишь, ребята, отцов не трогать! – командует Кирша.
– Оленушка! Оленушка! Дитятко! О-о-о! – Это отчаянный голос матери.
– А мама где? Мамушка! – испуганно вскрикнула она.
– Ничего, ничего, девынька, матушка там...
– Не сгорела?
– Ох, что ты! Помилуй Бог! Она тебя ждет.
– Где?
– Там, в монастыре.
Оленушка встала на ноги. Юродивый запахнул ее шубку.
– Студено, закройся.
Из монастыря доносился неясный гул и крики. Оленушка со страхом поглядела туда.
– Что там?
– Ничего, не бойся, дитятко.
Как ни умел владеть собой юродивый, но Оленушка видела, что он дрожит.
– Там стрельцы, дедушка? – робко спросила она.
– Ничего, ничего, не пужайся...
– А Иринеюшка?
– Тамотка же.
Оленушка что-то вспомнила и задрожала всем телом.
– А где он?.. Это он унес меня...
– Пойдем, пойдем, – торопил ее юродивый.
Она оглянулась и увидела на белом, кровью окрашенном снегу широко раскинувшее руки мертвое тело. В груди его торчал нож... Мертвые, широко раскрытые глаза убитого глядели на небо, как бы спрашивая, что же там, когда здесь все кончено?
XVII. «НА ТЕПЛЫЕ ВОДЫ»
Вновь наступила весна. Суровое северное поморье, долго спавшее под снегом, проснулось под теплыми лучами весеннего солнца и зазеленело молодой зеленью. Зазеленел и Соловецкий остров, и Кемской и Сумской посады, и Анзерский скиток... Только не ждут уже к себе молодые кемлянки и сумские молодухи дружков милых, молодых стрельчиков, а молодая Вавилкина-попадейка своего мила друга, Иванушку-воеводушку: с весной отплыли московские стрельцы со своим воеводушкой «на страну далече...». Тихо в монастыре и около.
Зазеленел с весной и Архангельской – славный город, о котором так долго скучала Оленушка: и в Архангельском, и вокруг него, как говорила Неупокоиха, «разтвяли твяты лазоревые и пошли духи малиновые».
Цветут садики вокруг торговой площади в городе Архангельске. Да и вся площадь, особенно у заборов, зеленеет молодою травкою.
Утро. Весеннее солнце, только что выкатившись из-за восточного взгорья, окрашивает золотисто-пурпуровым цветом церкви и крыши домов и протягивает длинные тени поперек всей площади. У торговых рядов и около казенных весов и мер да у кабацкого кружала стоят возы с припасами съехавшихся в город из окрестностей поселян. Привязанные у возов и хрептугов лошади, пережевывая сено и овес, то и дело ржут, не видя своих хозяев. А хозяева, мужики и бабы, а равно рядские сидельцы и посадские люди, все это кучится к середине площади, где высится огромный деревянный «покой», два столба с перекладиною. С перекладины спускается длинная, круто плетенная веревка, с петлею на конце. Тень от виселицы и от веревки идет по головам собравшейся толпы, теряясь где-то за заборами и в зелени садиков.
Все смотрят на виселицу, перекидываясь односложными словами и междометиями. Иногда из нестройного гула ясно вырежется и замрет среди лошадиного ржания фраза удивления.
– Ишь ты, какой покой-от съерихонили, и-и-ах! – острят тут же толкающиеся земские ярыжки.
Под виселицей ходит варнак с рваными ноздрями, в красной касандрийской рубахе, с засученными рукавами и исподлобья вскидывает своими немигающими глазами на толпу. Это палач.
Два стрельца, приставив ружья к виселичному столбу, расположились под виселицей, и один у другого ищет в голове.
Вдруг где-то за площадью глухо застучал барабан. Толпа колыхнулась. По лицам у всех пробежали не то тени, не то лучистые искры. Головы поднялись и беспокойно задвигались на плечах. Барабан не умолкал, все более и более приближаясь.
Впереди взвод стрельцов, с барабанщиком в голове взвода. Барабан выбивал глухую беспорядочную дробь, а барабанщик, лениво колотя палочками по туго натянутой шкуре, шибко делал выверты локтями. Стрельцы шли сердито, как бы стыдясь своего дела, а понурый Чертоус беззвучно шевелил губами.
За стрельцами – жирный, красномордый попина, в черной рясе и с крестом в отекших от жиру руках. Видно было, что торчавшая впереди виселица поглощала все его внимание.
За попом – поджарый подьячий, в потертом кафтане и с таким же потертым лицом. За ухом лебединое, в виде лопаты, перо, а у пояса медная с ушками чернильница.
За ним стрелец вел за поводок пегую клячу, на которой лицом к хвосту сидел высокий старик с седою, сбившеюся на затылок косою. В руках он держал горящую восковую свечу.
Далее следовала телега, в которой, лицом назад, покачивались при движении и терлись одна о другую плечами две человеческие фигуры. В руках их горели зажженные свечи.
За первой телегой другая. В ней тоже два седока задом и оба со свечами.
За телегами другой взвод стрельцов. У самых виселиц шествие остановилось. Стрельцы сняли с пегой клячи необычайного седока с седою косою. Старое, темное и осунувшееся лицо оборотилось к толпе и усталыми глазами из-под седых, нависших бровей глянуло на виселицу... На лице показалась грустная улыбка... Это был архимандрит Никанор.
Толпа замерла. Слышалось только усиленное дыхание да изредка подавленный вздох.
Сняли и с первой телеги двух седоков, у которых к ногам прикованы были дубовые колодки. У одного, высокого, плечистого, хотя, видимо, изможденного колодника, красная голова так и отливала на солнце золотом, а запавшие глаза искрились, как у кошки в темноте. Другой, худой и косматый, с сумою через плечо, казалось, любовался виселицею и всем, что он видел... Добрые глаза светились детскою радостью... Это были огненный чернец Терентьюшко, ученик Аввакума, и Спиря-юродивый.
Сошли со второй телеги, гремя цепями, как спутанные лошади, сотники Исачко и Самко.
Все осужденные встали в ряд. У каждого в руках горело по свечке. Все молчали, только Исачко косился на виселицу, над которой в голубой лазури утреннего неба кружились голуби, и судорожно улыбнулся: вероятно, ему вспомнился любимец его, турман «в штанцах», застреленный воеводою Мещериновым Ивашкою и теперь покоящийся в земле, на острове...
К осужденным подошел поджарый подьячий, вынул из-за пазухи кафтана бумагу, развернул ее, снял шапку и, крикнув пискливо-скрипучим голосом к толпе «шапки долой», стал гнусить что-то...
Все слушали как будто рассеянно, словно бы то, что читали, совсем до них не касалось... Никанор же, который стоял первым, слушая читаемое, задумчиво качал головой, между тем как посиневшие губы его беззвучно шептали: «И се мимо иде, и се небе... и камо иду, не вем... дние его яко цвет сельний – и тако отцветут... да-да, отцвели... отцветут и падут»...
Чтение кончилось... Он взглянул на свечку, вздохнул и сам задул ее... Потом положил свечку к себе за пазуху, бормоча: «Тамо зажгу ее... долог путь тамо, ох долог!» – и сам подошел к виселице.
Палач, казалось, не смел приблизиться к нему и глядел вопросительно на подьячего.
– Верши! – хрипло проговорил последний.
Палач протянул руку к петле. Никанор отклонил его руку.
– Сам на себя сумею венец-от надеть! – и поклонился на все четыре стороны. – Сам надену...
И надел: вложил шею в петлю, отведя в сторону волосы и освободив из-под веревки бороду, как делал он это обыкновенно, облачаясь в ризы перед литургиею... Он поднял глаза к небу...
– Господи! В руце Твои...
– Верши! – прохрипел подьячий.
Палач стремительно дернул за другой конец веревки. Веревка запищала в немазаном блоке... Тело старого архимандрита поднялось от земли... ноги подогнулись. Руки конвульсивно поднялись к шее... Палач встряхнул веревкой, еще, еще, и сам как бы повис на ней...
– О-ох! – послышался стон в толпе.
– Глядите, православные, как люди на небо возносятся! Гляньте-ко! – раздался вдруг чей-то голос, так что все вздрогнули. То крикнул юродивый, указывая на колыхавшееся в воздухе бездыханное тело старого архимандрита.
– Господи! За что же это?! О-ох!
– За крест истовый, за веру... Ну! Времечко!..
Многие испуганно крестились. И странно! Все крестились именно тем истовым крестом, за который вот тут же, сейчас, умер человек, которого и в купели этим же крестом, и сам он крестился им более семидесяти лет.
Подьячий подошел к качавшемуся телу и робко потрогал за ноги.
– Отошел, кажись, – тихо сказал он палачу, – спусти.
Палач, красный от натуги, опустил веревку. Мертвое тело мешком повалилось на землю... седые волосы разметались...
– Ох, смертушка! О-о! – Это из толпы.
Палач распустил петлю, вынул из нее голову мертвого и оттащил труп в сторону, к виселичному столбу.
Под виселицу подошел юродивый. Он обвел толпу своими кроткими глазами, и вдруг лицо его озарилось глубокой радостью...
– Оленушка! Дитятко!
Действительно, у одного края толпы, прижавшись к матери, вся бледная и дрожащая, стояла Оленушка, с распухшими от слез глазами. Рядом с ней, также бледная и испуганная, опираясь на руку плотного рыжего мужчины в немецком платье, стояла и знакомая нам аглицкая немка, Амалея Личардовна Прострелова, и тут же, сердито поглядывая на поджарого подьячего, виднелся галанский немец, богатый Каролус Каролусович из Амбурха. Из-за Оленушки робко выглядывал в своей черненькой скуфейке юный Иринеюшка, а на него косился исподлобья стоявший тут же краснощекий малый, в щегольской синей канаусовой рубахе, с четырехугольным прорезом густейших русых волос на низком лбу.
– Ох, мама! Матушка! Ох! – стонала Оленушка, припадая к плечу матери.
Юродивый, запустив левую руку в свою суму (он не расставался с нею и в архангельской земляной тюрьме, где заключены были осужденные), вынул оттуда череп и поцеловал его. Потом стал кланяться на все четыре стороны.
– Простите, православные, в чем согрубил вам!
– Бог простит, родимый, Бог простит! – загудела толпа.
– Прощай, Оленушка! Прощай, девынька!
И юродивый издали перекрестил ее, а потом снова поцеловал череп, говоря:
– А теперь ты, моя Оленушка, здравствуй, я к тебе пришел...
И, положив череп в суму и не задувая свечи, сам вложил свою косматую голову в петлю...
– Возноси на небо! – скомандовал он палачу. – Я со свечой иду ко Господу! Теплись, моя свечечка!
И опять палач-варнак дернул за веревку и даже присел на корточки.
Взлетел Спиря на небо... поджал ноги... опустил их... из окоченевших пальцев не выпала горевшая свечка, но припала к груди... задымилась рубаха... вспыхнула – поломи охватило бороду... перекинулось на косматую голову... затеплился, как свечечка воскояровая, весь Спиря!
Раздались вопли по всей площади:
– «О, Владычица!» – «Господи спаси!» – «Свят-свят... О!» – «Изверги!..»
Оленушка упала как сноп...
– О, барбарей! Доннерветтер! Пфай-оо! – истово бормотал Каролус Каролусович.
У Амалеи Личардовны по бледным щекам текли слезы.
Труп с обугленной головой вынули из петли и положили рядом с Никанором...
Под виселицу молча подошел огненный чернец и, подняв кверху правую руку с отрубленными пальцами, громко сказал:
– Мотрите, православные! За истовый крест отсекли у меня персты... Слава тебе, Господи!.. Топерь секите мою голову! – обратился он к стрельцам, стоявшим у виселичных столбов.
Стрельцы смущенно потупились...
– Господь с тобой, Турвонушко, – бормотал Чертоус, – мы туточка ни при чем... наше дело рабье...
– Верши! – проскрипел подьячий к палачу.
И огненный чернец – качался в воздухе... Рыжая голова, освещаемая солнцем, казалось, испускала лучи...
Седой Чертоус, бледный, с дрожавшими губами, ударил ружьем оземь, так что приклад разлетелся надвое, и мрачно подошел к подьячему.
– Вешай и меня... и я хочу венец получить, – так же мрачно сказал он.
Подьячий с испугом попятился назад...
– Что ты! Что ты! Бог с тобой!
– Вешай, это твое дело!..
К виселице подошел Исачко и стал надевать на себя освободившуюся от третьего трупа петлю. Поправляя ее у себя на шее, он поднял голову... Опять над виселицей кружатся голуби. А вон и белый турман...
У Исачки дрогнули углы губ, и заискрились косые, добрые глаза. Прошлое с этим голубем встало перед ним. Он махнул рукой палачу.
Палач натужился, потянул; ноги Исачки отделились от земли, он закинул голову, встряхнулся – и – «ох!» крикнули в толпе: Исачко упал.
– Сорвался! Ох, страсти! – прошептал кто-то. Исачко поднялся с земли с обрывком на шее, красный, с налитыми кровью глазами...
– О, шанде! Барбарей! – обратился Каролус Каролусович к соседу в немецком платье. – Вот срам! К нам, за море, отправляют лучшие веревки и пеньку, а казне оставляют брак, гниль... О, Московия!
Исачко, шатаясь, подошел к подьячему, который что-то горячо говорил палачу.
– Да вить это ты, государь, отпустил веревку-ту, казенна, – оправдывался варнак.
– Вот тебе за веревку, казнокрад! Н-на же! Ешь.
И полновесная пощечина Исачкиной широкой и мозолистой ладони глухо звякнула по сухим скулам подьячего... Подьячий как стоял, так и свалился снопом на трупы повешенных.
– И мы хотим венцов! Вешайте нас! – послышался ропот в толпе, и толпа хлынула к виселице. – Хотим помереть за веру, за крест! Берите всех нас! И мы с ними заодно! Казните нас! Секите головы!
Площадь превратилась в бушующее море...
* * *На другой день утром из Архангельска, по холмогорской дороге, вышли два странника, один старый, другой молоденький, оба с сумками и дорожными посохами.
– Так-ту, Иринеюшко, – говорил старик, – коли на Руси дышать нечем стало, так и Бог с ней... И птица от зимы на теплые воды летит, так-ту и мы с тобой...
Державный плотник
Исторический роман
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
ПушкинЧасть I
1
В глубокой задумчивости царь Петр Алексеевич ходил по своему обширному рабочему покою, представлявшему собою в одно и то же время то кабинет астронома с глобусами Земли и звездного неба, с разной величины зрительными трубами, то мастерскую столяра или плотника и кораблестроителя, с массою топоров, долот, пил, рубанков, со всевозможными моделями судов, речных и морских, со множеством чертежей, планов и ландкарт, разложенных по столам.
Что-то нервное, скорее творческое, вдохновенное светилось в выразительных глазах молодого царя.
Была глубокая ночь. Но сон бежал от взволнованной души царственного гиганта. Он часто, подолгу, останавливался в раздумье перед разложенными ландкартами.
– Морей нет, – беззвучно шептал он, водя рукою по ландкартам. – Земли не измерить, не исходить. От Днестра и Буга до Лены, Колыми и Анадыри моя земля, вся моя!.. И у Александра Македонского, и у Цезаря, у Августа, у всего державного Рима не было столько земли, сколь оной подклонилось под мою пяту, а воды токмо нет, морей нет... Нечем дышать земле моей... Воздуху ей мало, свету мало... Так я же добуду ей воздуху и свету, и воды, воды целые океаны!
Он с силою стукнул по столу так, что юный денщик его, Павлуша Ягужинский, приютившийся за одним из столов над какими-то бумагами, вздрогнул и с испугом посмотрел на своего державного хозяина.
Но Петр не заметил того. Ему вспомнилось все, что он видел во время своего первого путешествия по Европе. Это был какой-то волшебный сон... Корабли, счету нет кораблям, которые бороздят воды всех океанов, гордые, величественные корабли, обремененные сокровищами всего мира... А у него только неуклюжие струги да кочи, да допотопные ушкуи.
– У махонькой Венецеи, кою всю мочно шапкой Мономаха прикрыть, и у той целые флотилии... Голландерскую землю мочно бы пядями всю вымерить, а на поди! Кораблям счету нет! – взволнованно шептал он, снова шагая по своему обширному покою.
Добыть моря, добыть!.. Не задыхаться же его великой земле без воздуху!.. На дыбу, духовно, поднять всю державу, весь свой народ, и добыть моря, чтоб протянуть державную руку к околдовавшей его Европе... Через Черное море, через Турскую землю – далеко, это не рука... А там, за Новгородом и Псковом, где его пращур, Александр Ярославич, шведскому вождю Биргеру «наложил печать на лице острым мечом своим», там, где он же на льду Чудского озера поразил наголову ливонских рыцарей в «Ледовом побоище», там ближе к Европе...









