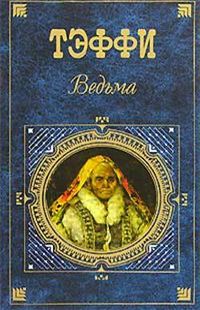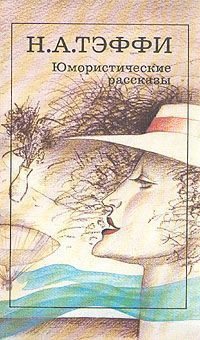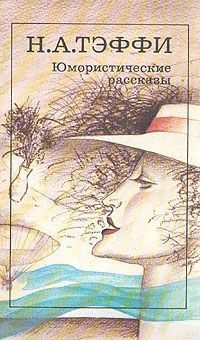Полная версия
Ведьма (сборник)
Я смолчала. Опять не ладно.
– Чего, – кричит, – ты молчишь, как мегера.
У него только и есть. Молчу – мегера, смеюсь – гетера. Только и слышишь что древнегреческие обидности.
Идем. Тащу Джипси. Сердцебиение, усталость – однако молчу, кротко улыбаюсь.
Смотрим – по тротуару, напротив ресторана, шагает Кирпичев. Ну чем я виновата? Я его не предупреждала, что будем здесь.
Сергей Иванович, положим, смолчал. Но такое молчание хуже всякого скандала.
Поздоровались, пошли вместе. Ну тут он и начал свои фортели. То сзади плетется, то на три версты вперед убегает. Не могу, мол, идти так медленно. Да и нельзя, мол, весь тротуар занимать. А потом и совсем исчез.
Я вне себя от волнения. Кирпичев меня утешает, хотя сам исстрадался – худеет, бледнеет, ничего не ест. Молчит о чувстве своем, но догадаться нетрудно. Но с ним так легко говорится, приятно, интеллигентно. А с Сергеем Ивановичем так: либо ругаюсь, либо молчу, как какая-нибудь Юдифь с головой Олоферна.
Кирпичев довел меня до дому.
Пришла, жду, жду. Сергей Иванович явился только через час.
– Где вы были?
– Так, немножко прошелся.
А сам отворачивается. Наверное, шагал как идиот и обдумывал план самоубийства. Я не перевариваю ревности. Я собралась с духом и сказала ему прямо:
– Сергей Иванович, я вам должна одно сказать: во-первых…
А он как заорет:
– Если одно, так и говорите одно, а не заводите во-первых, да в-четвертых, да в-десятых на всю ночь. А я, – говорит, – вам прямо скажу – все это мне надоело, и я завтра же съезжаю. А сейчас прошу дать мне выспаться.
И завалился. Слышу храп. Притворяется нарочно, будто спит. Всю ночь притворялся, утром притворился, будто выспался, уложил чемодан и ушел.
Я знаю, что от ревности человек на все готов, но чтобы при этом еще так не владеть собою… Не знаю, что еще меня ждет. Кирпичев поклялся защитить меня от безумца.
Что рассказывал Сергей Иванович.
– Итак, значит, пошли мы в ресторан. Взяли с собой собачонку. Умолял не брать – нет, взбеленилась, и никаких. Сразу испортила настроение. Но, однако, смолчал.
В ресторане – вечная история – куда ее ни посади, то ее печет, то на нее дует. Но я дал себе слово сдерживаться. Вижу, освободилось место и предлагаю самым ласковым тоном пересесть. И вдруг в ответ перекошенная физиономия и змеиный шип.
– Мне и тут ладно.
Ладно так ладно. Мне наплевать. Умолять и в ногах валяться не стану. Молчу. Ем. Вино, кстати, там недурное.
Увидела, что я пью с интересом, и прицепилась. Тут уж я вскипел. Что, вообще, эти дурищи думают?
Для чего человек в ресторан ходит – зубы чистить, что ли? Человек ходит для того, чтобы есть и поедаемое запивать. Вот для чего. Их идеал, чтобы человек смотрел, как она ест, а сам бы пожевал вареную морковку, запил водичкой, как заяц, и все время говорил бы комплименты. Куда как весело!
Вышли из ресторана – так и знал – тычет мне на руки свою моську. Ведь предупреждал! Ведь просил! Действительно, возмутительно!
Встретили какого-то болвана Скрипкина или что-то в этом роде. Воспользовался случаем, чтобы удрать. Жажда безумная. Выпил пива. Эта дурища, между прочим, твердит, как дятел, что вино жажды не утоляет. Объяснял идиотке, что жажда есть потребность жидкости, а вино есть жидкость. А она говорит, что селедочный рассол тоже жидкость, однако жажды не утолит.
Я ей на это резонно отвечаю, что, если она истеричка, надо лечиться, а не бросаться на людей.
Вернулся домой – вижу, приготовилась скандалить.
Пресек сразу:
– Завтра уезжаю.
И лег спать.
Слава богу, не догадалась, что был в бистро – старался не дышать в ее сторону.
Нет, довольно, раз мы друг друга не понимаем и говорим на разных языках.
Довольно.
Что бы рассказала Джипси.
Пошли в ресторан.
Хозяева всю дорогу лаяли.
В ресторане ели дрянь. Чужой господин ел цыпленка. Я смотрел на него, а он на меня. Если бы хозяйка на него полаяла, он дал бы косточку.
Ничего мне не попало.
На улице подошел тот, что каждый день лает с хозяйкой на прогулке и пихает меня ногой.
Хозяин убежал, а тот просунул свою лапу под хозяйкину лапу и совсем сковырнул меня в сторону. От него пахло жареной телятиной, а сам он тихонько подтявкивал, будто голодный. Потом и хозяйка стала подтявкивать. Сама виновата – зачем ела артишок и рака. Дура.
Оба притворялись голодными, да меня не надуешь.
Пришли к дому и стали у подъезда друг другу морды обнюхивать.
Она, верно, первая донюхалась, что он ел телятину, оттолкнула его и ушла.
Мы уже улеглись, когда пришел хозяин. От него несло двумя литрами пива – мне чуть дурно не сделалось. Где у них нюх? Я ему тявкнула в самую морду.
– Барбос!
Теперь хозяина нет, а приходит тот. Она воет, а он тявкает. А чтобы угостить шоколадом собаку, об этом, конечно, ни одному из них и в голову не придет.
Самая жестокая собачья разновидность – так называемый человек. Низшая раса, как подумаешь, что есть не верящие в белую кость!
Переоценка ценностей
Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул:
– Господа! Объявляю заседание открытым!
Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стукали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться.
– Господа! – закричал Тузин еще громче. – Объявляю заседание открытым. Семенов-второй! Навались на дверь, чтобы приготовишки не пролезли. Эй, помогите ему! Мы будем говорить о таких делах, которые им слышать еще рано. Ораторы, выходи! Кто записывается в ораторы, подними руку. Раз, два, три, пять. Всем нельзя, господа; у нас времени не хватит. У нас всего двадцать пять минут осталось. Иванов-четвертый! Зачем жуешь! Сказано – сегодня не завтракать! Не слышал приказа?
– Он не завтракает, он клячку жует.
– То-то, клячку! Открой-ка рот! Федька, сунь ему палец в рот, посмотри, что у него. А? Ну то-то! Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего, я думаю… ты что, Иванов-третий?
– Прежде всего надо лассуждать пло молань, – выступил вперед очень толстый мальчик с круглыми щеками и надутыми губами. – Молань важнее всего.
– Какая молань? Что ты мелешь? – удивился Петя Тузин.
– Не молань, а молаль! – поправил председателя тоненький голосок из толпы.
– Я и сказал молань! – надулся еще больше Иванов-третий.
– Мораль? Ну хорошо, пусть будет мораль. Так, значит, мораль… А как это мораль… это про что?
– Чтобы они не лезли со всякой ерундой, – волнуясь, заговорил черненький мальчик с хохлом на голове. – То нехорошо, другое нехорошо. И этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя – никто не говорит. И почему мы должны учиться? Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится. Пусть мне покажут такой закон, я, может быть, тогда и послушался бы.
– А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? Все это вздор и ерунда, – подхватил кто-то из напиравших на дверь. – Почему нельзя? Всегда буду класть…
– И стоб позволили зениться, – пискнул тоненький голосок.
– Кричат «не смей воровать!», – продолжал мальчик с хохлом. – Пусть докажут. Раз мне полезно воровать…
– А почему вдруг говорят, чтоб я муху не мучил? – забасил Петров-второй. – Если мне доставляет удовольствие…
– А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сделала!..
– Стоб не месали вступать в блак, – пискнул тоненький голосок.
– А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия. Мы возмущаемся и протестуем. Иван Семеныч нам все колы лепит, а в женской гимназии девчонкам ни за что пятерки ставит. Мне Манька рассказывала…
– Подожди, не перебивай! Дай сказать! Почему же мне нельзя воровать? Раз это мне доставляет удовольствие.
– Держи дверь! Напирай сильней! Приготовишки ломятся.
– Тише! Тише! Петька Тузин! Председатель! Звони ключом об чернильницу – чего они галдят!
– Тише, господа! – надрывался председатель. – Объявляю, что заседание продолжается.
Иванов-третий продвинулся вперед.
– Я настаиваю, чтоб лассуждали пло молань! Я хочу пло молань говолить, а Сенька мне в ухо дует! Я хочу, чтоб не было никакой молани. Нам должны все позволить. Я не хочу увазать лодителей, это унизительно. Сенька! Не смей мне в ухо дуть! И не буду слушаться сталших, и у меня самого могут лодиться дети… Сенька! Блось! Я тебе в молду!
– Мы все требуем свободной любви. И для женских гимназий тоже.
– Пусть не заплещают нам зениться! – пискнул голосок.
– Они говорят, что обижать и мучить другого нехорошо. А почему нехорошо? Нет, вот пусть объяснят, почему нехорошо, тогда я согласен. А то эдак все можно выдумать: есть нехорошо, спать нехорошо, нос нехорошо, рот нехорошо. Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали. Скажите пожалуйста – «нехорошо». Если не учишься – нехорошо. А почему же, позвольте спросить, – нехорошо? Они говорят – «дураком вырастешь». Почему дурак нехорошо? Может быть, очень даже хорошо.
– Дулак – это холосо!
– И по-моему хорошо. Пусть они делают по-своему, я им не мешаю. Пусть и они мне не мешают. Я ведь отца по утрам на службу не гоняю. Хочет – идет, не хочет – мне наплевать. Он третьего дня в клубе шестьдесят рублей проиграл. Ведь я же ему ни слова не сказал. Хотя, может быть, мне эти деньги и самому пригодились бы. Однако смолчал. А почему? Потому что я умею уважать свободу каждого ин-ди…юн-ди…ви-ди-ума. А он меня по носу тетрадью хлопает за каждую единицу. Это гнусно. Мы протестуем.
– Позвольте, господа, я должен все это занести в протокол. Нужно записать. Вот так: «Пратакол засе…» «Засе» или «заси»? «Заседания». Что у нас там первое?
– Я говорил, чтоб не приставали локти на стол…
– Ага! Как же записать?.. Нехорошо – «локти». Я напишу «оконечности». «Протест против запрещения класть на стол свои оконечности». Ну, дальше.
– Стоб зениться…
– Нет, врешь, тайное равноправие!
– Ну ладно, я соединю. «Требуем свободной любви, чтоб каждый мог жениться, и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей». Ладно?
– Тепель пло молань.
– Ну ладно. «Требуем переменить мораль, чтоб ее совсем не было. Дурак – это хорошо».
– И воровать можно.
– «И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи, и пусть все, что нехорошо, считается хорошо». Ладно?
– А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе человек.
– Да ты чего хлопочешь? Ты не слимонил ли чего-нибудь?
– Караул! Это он мою булку слопал. Вот у меня здесь сдобная булка лежала: а он все около нее боком… Отдавай мне мою булку!.. Сенька! Держи его, подлеца! Вали его на скамейку! Где линейка?.. Вот тебе!.. Вот тебе!..
– А-а-а! Не буду! Ей-богу, не буду!..
– А, он еще щипаться!..
– Дай ему в молду! Мелзавец! Он делется!..
– Загни ему салазки! Петька, заходи сбоку!.. Помогай!..
Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу.
Политика воспитывает
Собрался он к нам погостить на несколько дней и о приезде своем известил телеграммой.
Пошли на вокзал встречать. Смотрим во все стороны, как бы не проглядеть – давно не виделись и не узнать легко.
Вот, видим, вылезает кто-то из вагона бочком. Лицо перепуганное, в руке паспорт. Кивнул головой.
– Дядюшка! Вы?
– Я! Я! – говорит. – Только вы, миленькие, обождите, потому – я еще не обыскался.
Пошел прямо к кондуктору, мы за ним.
– Будьте любезны, – говорит, – укажите, где мне здесь обыскаться?
Тот глаза выпучил, молчит.
– Ваше дело, ваше дело. Я предлагал, тому есть свидетели.
Дяденька, видимо, обиделся. Мы взяли его под руки и потащили к выходу.
– Разленился народ, – ворчал он.
Привезли мы дядюшку домой, занимаем, угощаем. Объявил он нам с первого слова, что приехал развлекаться. «Закис в провинции, нужно душу отвести».
Стали мы его расспрашивать, как, мол, у вас там, говорят, будто бы…
– Все вздор. Все давно вернулись к мирным занятиям.
– Однако ведь во всех газетах было…
Но он и отвечать не пожелал. Попросил меня сыграть на рояле что-нибудь церковное.
– Да я не умею.
– Ну, и очень глупо. Церковное всегда надо играть, чтоб соседи слышали. Купи хоть граммофон.
К вечеру дяденька совсем развинтился. Чуть звонок, бежит за паспортом и велит всем руки вверх поднимать.
– Дяденька, да вы не больны ли?
– Нет, миленькие, это у меня от политического воспитания. Оборотистый я стал человек. Знаю, что, где и когда требуется.
Лег дяденька спать, а под подушку «Новое время» положил, чтоб худые сны не снились.
Наутро попросил меня свести его в сберегательную кассу.
– Деньги дома держать нельзя. Если меня дома грабить станут – непременно убьют. А в кассе грабить станут, так убьют не меня, а чиновника. Поняли? Эх вы, дурашки!
Поехали мы в кассу. У дверей городовой стоит. Дяденька засуетился.
– Милый друг! Ради бога, делай невинное лицо. Ну, что тебе стоит! Ну, ради меня, ведь я же тебе родственник!
– Да как же я могу? – удивляюсь я. – Ведь я же ни в чем не виновата.
Дядюшка так и заметался.
– Погубит! Погубит! Смейся, хоть, по крайней мере, верещи что-нибудь…
Вошли в кассу.
– Фу! – отдувался дяденька. – Вывезла кривая. Бог не без милости. Умный человек везде побывать может: и на почте, и в банке, и всегда сух из воды выйдет. Не надо только распускаться.
В ожидании своей очереди дяденька неестественно громким голосом стал рассказывать про себя очень странные вещи.
– Эти деньги, друг мой, – говорил он, – я в клубе наиграл. День и ночь дулся, у меня еще больше было, да я остальное пропил. А это вот, пока что, спрячу здесь, а потом тоже пропью, непременно пропью.
– Дяденька! – ахала я. – Да ведь вы же никогда карт в руки не брали! Да вы и не пьете ничего!..
Он в ужасе дергал меня за рукав и шипел мне на ухо:
– Молчи! Погубишь! Это я для них. Все для них. Пусть считают порядочным человеком.
Из сберегательной кассы отправились домой пешком. Прогулка была невеселая. Дяденька во все горло кричал про себя самые скверные вещи. Прохожие шарахались в сторону.
– Ладно, ладно, – шептал он мне. – Уж буду не я, если мы благополучно до дому не дойдем. Умный человек все может. Он и в банке побывает, и по улице погуляет, и все ему как с гуся вода.
Проходя мимо подворотного шпика, дяденька тихо, но с неподдельным чувством пропел: «Мне верить хочется, что этих глаз сиянье!..»
Мы были уже почти дома, когда произошло нечто совершенно неожиданное. Мимо нас проезжал генерал, самый обыкновенный толстый генерал, на красной подкладке. И вдруг мой дяденька как-то странно пискнул и, мгновенно повернувшись спиной к генералу, простер к небу руки. Картина была жуткая и величественная. Казалось, что этот благородный седовласый старец в порыве неизъяснимого экстаза благословляет землю.
Вечером дяденька запросился в концерт. Внимательно изучив программу удовольствий, он остановил свой выбор на благотворительном музыкально-вокальном вечере.
Поехали.
Запел господин на эстраде какое-то «Пробуждение весны». Дяденька весь насторожился: «А вдруг это какая-нибудь эдакая аллегория. Я лучше пойду покурю».
Кончилось пение. Началась декламация. Вышла барышня, стала декламировать «Письмо» Апухтина. Дяденька сначала все радовался: «Вот это мило! Вот молодец девица. И комар носу не подточит». Хвалил, хвалил, да вдруг как ахнет. Схватил меня за руку да к выходу.
– Дяденька! Голубчик! Что с вами!
– Молчи, – говорит, – молчи! Скорей домой. Дома все скажу.
Дома потребовал от меня входные билеты с концерта, сжег их на свечке и пепел в окно бросил. Затем стал вещи укладывать. Мы просили, уговаривали. Ничто не помогло.
– Да вы хоть скажите, дяденька, что вас побудило?
– Да не притворяйся, – говорит, – сама слышала, что она сказала. Отлично слышала.
Насилу уговорили рассказать. Закрыл все двери.
– Она, – говорит, – сказала: «Воспоминанье гложет, как злой палач, как милый властелин».
– Так что же из этого? – удивляюсь я. – Ведь это стихи Апухтина.
– Что из этого? – говорит он жутким шепотом. – Что из этого? «Гложет, как милый властелин». Статья 121, вот что это из этого. Пятнадцать лет каторжных работ, вот что из этого. Идите вы, если вам нравится, а я, миленькие, стар стал для таких штук. Мне и здоровье не позволит.
И уехал.
Семья разговляется
– Поедемте к нам, – упрашивали знакомые, когда стали расходиться из церкви. – Поедемте, вместе разговеемся.
Но Хохловы поблагодарили и с достоинством отказывались.
– Нет уж, мы всегда дома! Уж это такой праздник – сами понимаете… Вся семья должна быть в сборе. Мы всегда дома разговляемся, все вместе, сами понимаете… И детки ждать будут, как же можно?..
Радостно, торжественно.
Колокола гудят, на улицах толпа народа.
Радостно, торжественно.
Хохлов говорит жене:
– Швейцару пять, старшему дворнику пять…
– Посмотри, какой красивый вензель на подъезде, – перебивает жена. – Надо шесть. Прибавь рубль, а то сразу начнет с квартирными приставать.
– Все равно, рублем не замажешь… Для фрейлейн что купила?
– Браслетку, – вздохнула жена. – За шесть рублей, дутая, но очень миленькая. И потом, я на коробочку попросила другую цену наклеить. Приказчик очень симпатичный, написал – двенадцать с полтиной. По-моему, это даже еще естественнее, чем, например, просто тринадцать или двенадцать. Не правда ли? Но до чего я устала со всеми этими дрязгами! Обо всех нужно подумать, а ведь я одна. Поручить некому, а у всех претензии. Глаша (вообрази себе нахальство!) подходит ко мне на днях и заявляет: «Будете для меня подарок покупать – купите коричневого бордо на платье». Каково! И ведь прекрасно знает, что я сама коричневое ношу!
– Распущенность! Сама виновата. Не надо распускать. Приехали.
Швейцар торжественно распахнул двери.
– Христос Воскресе! С праздником, ваша милость!
Эту радостную весть первых христиан он произнес так спокойно и почтительно, словно докладывал: «Тут без вас господин приходили».
А Хохлов молча вытянул из-под отворота шубы бумажник, нахмурившись, вынул пять рублей и отдал их швейцару.
– Началось! – вздохнула жена.
Поднялись по лестнице.
На звонок отворила горничная и неестественно оживленно поздравила.
– Подарок после отдам, – сказала барыня и подумала: «И чего эта дура радуется? Воображает, кажется, что я ей коричневого купила».
В столовой ждали две девочки.
– Мама! – сказала одна. – Катя от большого кулича изюмину выколупала. Теперь там дырка.
– А Женя пасху руками трогала…
– Очень мило! Очень мило! – запела мать. – Вот как вы встречаете родителей. Вместо того чтобы похристосоваться и поздравить с праздником, вы вот как… А где ваша фрейлейн? Куда она девалась?
– Фрейлейн в гостиной, в зеркало смотрится, – отвечали девочки дуэтом.
– Час от часу не легче! Жалованье платишь, подарки покупаешь, а уйдешь из дому лоб перекрестить – и детей оставить не на кого. Фрейлейн Эмма! Где же вы?
Вошла фрейлейн с напряженно-праздничным лицом. В волосах кокетливо извивалась старая, застиранная лента.
Фрейлейн сделала полупоклон, полуреверанс, то есть, склонив голову, слегка лягнула ногой под юбкой, и сказала:
– Ich gratuliere…[1]
– Это очень хорошо, моя милая, – перебила ее хозяйка, – но вы также не должны забывать свои обязанности. Дети шалят, портят куличи…
У немки сразу покраснел носик.
– Я гавариль Катенько, а Катенько отвешаль, что кулиш не святой. Я не знаю русски обышай, што я могу?
– Ну, перестаньте! Об этом потом поговорим. А где Петя?
– Петя пошел к заутрени во все церкви сразу, – отвечал дуэт. – Я говорила, что мама рассердится, а он говорит, что он не просил вас, чтобы вы его рождали, и что вы не имеете права вмешиваться.
– Ах, дрянь эдакая! Ох, бессовестный! – закудахтала мать.
– В чем дело? – спросил, входя, Хохлов. – Вот вам подарок. Фрейлейн, вам браслетка. А вам, дети, – крокет.
Дети надулись.
– Какой же подарок! Крокет вовсе не подарок. Крокет еще в прошлом году обещали без всякого праздника.
– Цыц! Вон пошли! Сидите смирно или убирайтесь вон из комнаты! Не дадут отцу-матери разговеться спокойно. Где Петька?
– Во все церкви пошел… не имеете права вмешиваться… он не просил, – отвечал дуэт.
– Что такое? Ничего не понимаю. Вот я ему уши надеру, как вернется. Будет помнить! Не давать ему ни кулича, ни пасхи! Эдакая дрянь!
Хохлов сел за стол.
– Это что? Поросенок? Чего ты там в него натыкала? И к чему было фаршировать, когда я ничего фаршированного в рот не беру! Только добро портят. Муж горбом выколачивает гроши, а вы хоть бы подумали, легко ли это ему дается. Вы только сидите да фаршируете! Эдак, матушка, ты хоть миллион профаршируешь, раз в тебе нет никакой самокритики. Так тоже нельзя! Ну, к чему здесь, спрашивается, огурец лежит? Ну, кого ты думала огурцом удивить?
– Да я думала, что, может быть, Август Иванович разговеться заедет.
– Август Иваныч! Очень ты его огурцом удивишь! Одна фанаберия. Передай сюда яйца.
Хохлов треснул яйцом об край тарелки. Жидкий желток брызнул ему на жилетку и пошел по пальцам.
– Это что? А? Всмятку! Позвать сюда Мавру! Позвать сюда мерзавку, которая на Пасху яйца всмятку варит. А? Каково? Двенадцать рублей жалованья, яиц сварить не умеет!
Вошла кухарка, встала у дверей.
– Это что? А? Это крутое яйцо? А?
– Виновата-с! К нему в нутро тоже не влезешь. Кто его знает, отчего оно не сварилось… Я ведь тоже не Свят Дух!..
– Скажи лучше, что ты мне с жилеткой сделала! У меня жилет тридцать рублей стоит; я его десять лет ношу, а ты мне его в один миг уничтожила! С меня подарков требуешь, а сама меня по миру норовишь пустить! Вон! Чтоб духу твоего… Кто там звонит? Ага, Петя! Тебя-то мне и нужно! Ты как смел без спросу в церковь уйти? А? Отвечай!
– Да что ж, когда вы не пускаете! Я ведь тоже человек. У меня религиозная потребность…
– Ах ты, поросенок! Скажите пожалуйста, какие он отцу слова говорит! Отец на них работает, отец их воспитывает, одевает, обувает, ночей не спит да думает, как бы им хорошо было…
– А где подарки?
– Слушаться не хотят, а о подарках не забудут. Тебе мать коньки купила, только я их тебе не дам! Нет, братец! Ты воображаешь…
– Не надо мне ваших коньков! Кто ж к лету коньки дарит! Все только нарочно!
– Сам же всю осень ныл, что коньков нет!..
– Так это осенью было! А теперь я же вам намекал, что мне удочка нужна. Если вы отец, так вы и должны относиться по-родительски.
– Ах ты, поросенок! Вон отсюда! Ничего не получишь! Не давать ему ничего! Ни кулича, ни пасхи! Ничего!
– А, так вот же вам!
Петя шлепнул ладонью по пасхе и удрал в свою комнату.
– Пойду, отдам прислуге подарки, – сказала Хохлова и встала из-за стола.
Муж остался один и долго молча жевал.
– Ну что, рады небось? – спросил он, когда жена вернулась.
– Разве их чем-нибудь обрадуешь? Даже не поблагодарили… Глаша говорит, что фрейлейн плачет.
– Чего она?
– Браслетка не нравится. Не к лицу.
– Вот дура!
– Такая миленькая браслетка. И два сердечка подвешены. Им все мало!
– Ну, вот и разговелись. Теперь можно и на боковую. Слышишь? Что это там за треск? А?
– Ничего. Это девчонки крокет ломают.
– Эдакие дряни! Вот я им ужо!!
Нянькина сказка про кобылью голову
– Ну, а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек? – спросила я у своей соседки по five o’clok’y.
– Как вам сказать!.. Если бы дело шло о воспитании меня самой, то, конечно, я была бы всецело на стороне новых веяний. Ах, это было бы так забавно. Маленькие романы… Сцены ревности за уроками чистописания, самоотверженная подсказка… Да, это очень увлекательно! Но для своих дочерей я предпочла бы воспитание по старой методе. Как-то спокойнее! И, знаете ли, мне кажется, все-таки неприятно было бы встретиться где-нибудь в обществе с господином, который когда-то при вас спрягал: «Nous avons, vous avez, ils ont»[2]… или еще того хуже! Такие воспоминания очень расхолаживают.
– Все это вздор! – перебила ее хозяйка дома. – Не в этом суть! Главное, на что должно быть обращено внимание родителей и воспитателей, – это развитие в детях фантазии.
– Однако? – удивился хозяин и пожевал губами, очевидно собираясь сострить.
– Finissez![3] Никаких бонн и гувернанток! Никаких. Нашим детям нужна русская нянька! Простая русская нянька – вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери.