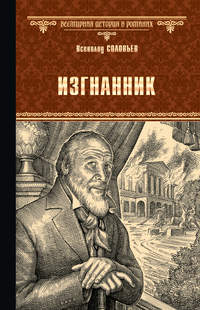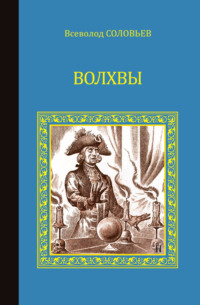Полная версия
Жених невесты
Приставам было сказано: «Вы бы рассмотрели всякими мерами подлинно и у дворян и посольских людей в разговорах тайно разведали, как графа Вольдемара посол Краббе и посольские люди почитают: государским ли обычаем или рядовым обычаем?»
По приезде посольства приставы немедленно донесли, что Краббе перед графом но временам снимает шляпу, по дороге едучи, но говорит с ним иной раз и в шляпе; за обедом сидит с ним вместе. «Думные же и бояре» графа почитают, говорят с ним все снявши шляпы и в разговоре с ним называют его королевичем, а не послом и во всем его почитают государским обычаем.
Получив такой ответ, царь с думными боярами совещался о том, как же принять королевича: со всеми почестями, принадлежащими его сану, или как обыкновенного посла?
Решено было принять обыкновенным образом, так как в королевской грамоте королевич значился не королевичем, а послом.
X
С первого же дня появления Вольдемара в Москве начались всякие недоразумения и неприятности. Когда он отправился представляться царю, то его попросили снять шпагу.[8] На это он возразил, что шпагу снять не может, так как это было бы для него позорно. Но на его доказательства московские бояре не обратили внимания и стояли на своем, не допуская его до государя.
Королевич был поставлен в безвыходное положение: нельзя же было возвращаться в Данию, не представившись даже царю, – это ведь тоже было бы позорно и затем грозило нескончаемой враждою между двумя государствами. Пришлось покориться иноземному обычаю и снять шпагу. Впрочем, царь Михаил Федорович, приветствуя королевича, имел такой добродушный, привлекательный вид, так ласково к нему отнесся, что Вольдемар сразу вышел из мрачного настроения, в какое повергла его история со шпагой.
Правда, и во время царской аудиенции не все было совсем гладко: уж слишком бесцеремонно как сам царь, так и его приближенные разглядывали королевича, и это бесцеремонное разглядывание не могло не покоробить юношу, родившегося и воспитанного среди более цивилизованного общества. Но он, по счастью, сообразил, что ведь он не в Вене у императора, что он и ехал сюда, представляя себе Московию полуварварской страной.
К тому же результат разглядывания королевича был, очевидно, в его пользу. От него не стали скрывать произведенного им впечатления, а самолюбивый юноша, видящий, что он понравился, станет ли сердиться?
Вольдемару и Краббе было тотчас же назначено «быть в ответе с боярами» и изложить причину, побудившую короля датского прислать посольство.
Вольдемар от имени короля потребовал вольной торговли для датских купцов по всему московскому государству.
Вопрос этот был решен в утвердительном смысле, хотя и с некоторым ограничением.
Затем королевич просил позволения датчанам строить дворы и церкви. На это ему ответили, что в Москве уже есть у датских купцов свой двор, а в Новгороде, Пскове и Архангельске пусть они купят дворы или построят новые на посаде. Что же касается церквей, ответили сразу и единогласно: «Киркам не быть». На этом бояре стояли твердо и отказались от всяких дальнейших разговоров по этому предмету.
Затем пошли уже вопросы второстепенные и после всестороннего обсуждения были решены более или менее удовлетворительно.
Наконец, переговорив обо всем, собрались писать грамоты «на докончание»,[9] но тут, как и прежде случалось весьма часто в подобных обстоятельствах, оказалась беда. Вольдемар настаивал, чтобы в датской грамоте королевское имя стояло перед царским именем. На это бояре не согласились и выказали такое же упрямство, как и по вопросу о кирках.
Напрасно в течение нескольких дней Вольдемар, Краббе и все члены датского посольства доказывали боярам, что в их желании нет ровно ничего обидного для царского величества: как естественно со стороны бояр ставить в своих грамотах имя своего государя перед именем чужеземного, так точно и датчане в своей грамоте не могут поставить имя своего государя на втором месте. Бояре никаких доказательств не слушали только обижались, только мрачно повторяли, пощипывая себе бороды: «Этому делу не бывать».
И пришлось королевичу с посольством уехать из Москвы ровно ничего не добившись, ничего не разузнав. Главное же что сердило Вольдемара, он не только не увидал никакой царевны, но не разглядел даже ни одной московской женщины.
Во время его прогулок по городу ему попадались только совсем неинтересные фигуры старух. Правда, иной раз мимо него прокатывались какие-то безобразные рыдваны, и в этих рыдванах помещалось что-то таинственное, но что именно, того никак нельзя было разобрать, так оно было закутано ревнивой фатой.
Потом Московия представлялась королевичу страною упрямых, непонятливых бородачей в высочайших шапках и парчовых кафтанах, страною, где люди живут в тесных помещениях, много едят, много пьют и где совсем нет женщин. Такая страна не могла понравиться юноше, и он возвращался в Копенгаген с сознанием разбитых грез, в глубоком разочаровании.
XI
В Москве, однако, вовсе не думали разочаровываться или покидать мысль о женитьбе королевича на царевне Ирине. Уж очень этого хотелось царю: он считал, во всех отношениях, крайне важным родство русского царствующего дома с семьями иноземных государей. Эту мысль он наследовал еще от своего отца, патриарха Филарета, который его самого, после печальной истории с Марьей Ивановной Хлоповой, непременно хотел женить на иноземной принцессе.
Царь хорошо помнил все обстоятельства этого времени своей юности.
Как теперь, так и тогда выбор прежде всего остановился на Дании.
В 1621 году из Москвы были отправлены патриархом Филаретом в Данию князь Львов и дьяк Шипов с таким предложением королю: «По милости Божьей великий государь приходит в лета мужеского возраста, и время ему, государю, приспело сочетаться законным браком, а ведомо его царскому величеству, что у королевского величества есть две девицы, родные племянницы, и для того великий государь его королевскому величеству любительно объявляет: если королевское величество захочет с великим государем царем быть в братстве, дружбе, любви, соединении и приятельстве навеки, то его королевское величество дал бы за великого государя племянницу свою, которая к тому великому делу годна».
Вместе с этим послам был дан устный приказ: «Если в Дании станут говорить, что королевская племянница перейдет ради своего супруга в русскую веру, но что креститься ей в другой раз непригоже, так как она и без того крещена по своему закону в христианскую веру, то следует отвечать: «Королевской племяннице в другой раз не креститься никак нельзя, потому что у нас со всеми верами рознь немалая: у иных вер вместо крещения обливают и миром не помазывают…у иных вер вместо крещения обливают и миром не помазывают… – Лютеранское крещение (как и католическое) заключается в обливании крещаемого водой, тогда как православный обряд предполагает троекратное погружение в освященную воду и последующее таинство миропомазания;[10] так король бы свою племянницу на то наводил и отпустил ее с тем, чтобы ей принять святое крещение».
Так же и во всем остальном посланные должны были действовать с осторожностью и заранее на все иметь готовые ответы.
Они должны были стараться всем родственникам и ближним людям королевской племянницы, войдя к ним в доверие, всячески расхваливать православную веру и просить их убеждать в достоинствах этой веры невесту.
Для того чтобы дело лучше ладилось, послам было приказано не скупиться на подарки, а пуще того на обещания.
Если король будет спрашивать: дадут ли его племяннице особые города и доходы то следовало отвечать: «Если по Божественному Писанию будут оба во плоть едину, то на что их государей, делить? Все их государское будет общее, чего она, государыня, захочет все будет ей невозбранно: кого захочет, того, по совету и повелению супруга своего, жаловать будет, и датским людям, которые будут с нею, неволи и нужды не будет ни в чем, что с нею будут немногие люди – многим людям быть не для чего: у государя на дворе честных и старых боярынь и девиц, отеческих дочерей, много»
Наконец, на случай благополучного окончания переговоров и королевского согласия давалось послам такое наставление: «Если король согласится на все, просить позволения ударить челом племянницам и пришедши к ним, ударить челом по обычаю учтиво об руку и поминки королеве и девицам поднести от себя по сороку соболей или что пригоже. Причем смотреть девиц издалека внимательно, какова которая возрастом, лицом, белизною глазами, волосами и во всяком прироженье и нет ли где увечья, а смотреть издалека и примечать вежливо. Если королева позовет их к руке, то идти, королеву и девиц в руку целовать, а не витаться с ними (то есть не брать их за руку). И посмотревши девиц, идти вон, после чего проведывать, которая к великому делу годна: чтобы была здорова, собою добра, не увечна и в разуме добра, и какую выберут, о той и договор с королем становить: спрашивать, сколько дадут за невестою земель и казны».
Но, несмотря на все эти рассудительные предписания, а вернее, именно благодаря им, сватовство ничем не кончилось. Король сказался больным и не стал объясняться с князем Львовым, а тот, в свою очередь, объявил, что иначе как с королем ни о чем говорить не будет.
Потом, через два года, патриарх Филарет сделал еще одну попытку. Он послал к шведскому королю Густаву-Адольфу сватать за царя Екатерину, сестру курфюрста бранденбургского Георга, приходившегося шведскому королю шурином. Однако и тут вопрос о вере всему помешал. На требование, чтобы невеста крестилась в православную греческую веру, король ответил, что ее княжеская милость для царства не отступит от своей христианской веры, не откажется от своего душевного спасения…
С большим горем патриарх Филарет оставил мысль женить сына на иностранной принцессе. Но мысль эта не погибла. Она жила в царской семье, и вот теперь Михаил Федорович решил во что бы то ни стало породниться с Данией.
Когда ближние советники напомнили ему, что и на сей раз вопрос о вере, наверно, станет непреодолимым препятствием, он отвечал им:
– Да, дело трудное, но не будь оно трудно, так о нем и толковать было бы нечего. Обходить его надо со всякой опаской, со всякою хитростью.
Этот царский взгляд, безусловно, разделяли и советники, поэтому вопроса о вере королевича Вольдемара решено было коснуться только при последней необходимости, если же возможно, то и совсем обойти его: Бог милостив, все сделается само собою, в свое время…
Но вот королевич уехал из Москвы, и не только о вере его, но и о сватовстве не было речи. О том, под каким впечатлением он уехал, никто не думал. Царь и ближние бояре были довольны, они достигли всего, что было пока необходимо: видели королевича и он их видел.
Жених всем понравился, и никакой персоны его теперь и писать не надо. Что же касается того, что ни он не видел невесты, ни она его не видела, – об этом, конечно, никто не думал, никому и в голову не могла прийти мысль подумать об этом.
XII
Переждали зиму и в апреле 1642 года отправили в Данию посольство. В послах были: окольничий Степан Матвеевич Проестев и дьяк Иван Патрикеев. Им поручено было начать вопрос о заключении докончания, но это было только для прилики.
Они везли подарки королевичу Вольдемару, везли соболей на две тысячи рублей и имели полномочие ничего не жалеть, лишь бы совершить добром государское дело, приступить к которому было теперь признано благовременным.
Въезжая в Копенгаген, Проестев и Патрикеев никак не ждали дурного приема, а между тем их встретили далеко не ласково.
Вольдемар и Краббе вернулись крайне недовольными, и все, о чем они рассказали Христиану, раздражило короля. О докончании и он мало заботился, но он признал придирки московских бояр доказательством того, что царь передумал и не желает больше выдавать своей дочери за Вольдемара. Между тем ведь это было теперь единственным интересом в сношениях с московским государством.
Узнав о приезде русских послов, Христиан даже рассердился и отдал приказ не оказывать им никаких знаков внимания. Однако все же им была назначена у него аудиенция.
Христиан принял их в аудиенц-зале с большой торжественностью, которая сразу смутила москвичей.
Проестев и Патрикеев не без робости подошли к трону и встретили равнодушный взгляд короля. При их приближении он не переменил своей небрежной позы и только едва заметно кивнул им головою.
Они, запинаясь, по обычаю, сказали, что великий государь велел королю поклониться, про свое здоровье сказать и брата своего здоровым видеть.
Вот толмач перевел королю эти слова, конечно, король сейчас встанет и в свою очередь спросит про царское здоровье. Но король не встает, молчит, послы не знают, что им делать. Они испуганно переглянулись, побледнели, в руке у Проестева дрожит царская грамота. Он должен подать ее королю, но может ли он подать, когда король не встает с места и молчит? Может ли он перенести такое оскорбление царского величества?
Он обеими руками ухватился за грамоту, будто боясь, что ее силой у него вырвут, и весь вспыхнул. Пусть его убьют на месте, но он не отдаст грамоты, пока король не встанет.
Нельзя же, однако, так стоять и ждать – надо говорить; и вот Проестев собрал последние силы, взглянул на Патрикеева, молчаливо прося его поддержки, и, едва ворочая языком, объявил, что он ждет исполнения обычая.
Толмач перевел. Король медленно произнес несколько слов, но, говоря, он обратился не к послам, а к своему канцлеру, и уж тот повторил слова его, глядя на послов.
Толмач перевел, что король рад слышать про здоровье своего брата, царя московского.
И Проестев и Патрикеев оба вздрогнули. Робость их и смущение прошли, голос Проестева окреп, и он с большим достоинством ответил:
– Наш великий государь про королевское здоровье спрашивал сам, никому того не поручая, и спрашивал вставши.
Услыша слова эти, король сделал нетерпеливый жест, горделиво откинув голову, и сердито спросил:
– Как наши послы были у вашего государя, то что им у вас делали?
– Когда ваши послы были у нашего государя, то государь наш у вашего королевского величества чести не умалял, а мы теперь видим тому противное!
– звучным голосом произнес Проестев.
Он выпрямился и глядел прямо в глаза Христиану с таким выражением, какое могло смутить кого угодно.
Король сообразил, что действительно зашел уж слишком далеко, и вдруг встал, снял шляпу и спросил про царское здоровье.
Теперь Проестев мог уже со спокойной совестью передать королю грамоту, что он и сделал, почтительно и низко кланяясь.
Аудиенция была благополучно закончена.
Через несколько дней начались переговоры послов с канцлером, и первый вопрос опять был: кого прежде писать в грамотах? Датский канцлер прямо заявил Проестеву и Патрикееву:
– Наш король во всей Европе никакому государю своей чести не уступит и такой дорогою ценою ни у какого государя дружбы купить не хочет.
Послы тоже уступить не могли и о докончании совсем замолчали. Они прямо приступили к своему главнейшему делу, бывшему единственной действительной целью их посольства.
Проестев говорил канцлеру:
– Великий государь хочет быть с его королевским величеством в приятельстве, крепкой дружбе, любви и соединении свыше всех великих государей и для того велел его королевскому величеству объявить, что его государской дщери, царевне Ирине Михайловне, приспело время сочетаться законным браком и ведомо ему, великому государю, что у датского Христиануса короля есть доброродный и высокорожденный его, короля, сын, королевич Вольдемар-Христиан, граф Шлезвиг-Голштинский. Если его королевское величество захочет быть с ним, великим государем, в братской дружбе навеки, то он бы позволил сыну своему государскую дщерь взять к сочетанию законного брака.
Услыша эти слова, канцлер сразу стал любезен и ласков. Он ответил, что дело это великой важности и он о нем немедленно доложит его королевскому величеству, а пока, от себя, не может сказать ровно ничего.
Христиан очень изумился, увидя входившего канцлера с таким лицом, которое ясно говорило о том, что владелец его несет весьма радостную весть. Никакой радостной вести в настоящую минуту король не ожидал, а о послах московских забыл и думать.
Он выслушал канцлера с нескрываемым удовольствием, и снова все прежние планы относительно судьбы любимого сына зароились в голове его.
– Вот странные люди! Вот дикие люди! – повторял Христиан, в необыкновенном волнении поднимаясь с места. – Впрочем, действительно нельзя строго судить их, быть может, граф Шлезвиг-Голштинский научит их вежливому обхождению, отучит их от грубости и варварства… Надо пожалеть их. – прибавил он с довольной улыбкой. – Согласиться что ли, отдать им в учителя моего сына? Как вы об этом думаете, канцлер?
– Вопрос уже был решен, – отвечал канцлер с поклоном, – и если ваше величество не передумали, все зависит от подробностей…
– Поручаю вам расспросить этих московских медведей обстоятельно и тотчас же доложить мне все подробно.
XIII
Так как вместе с Проестевым и Патрикеевым был послан и Иван Фомин, иностранец, в качестве человека бывалого, знающего языки и уже ведомого королевичу Вольдемару, переговоры могли идти быстрее и успешнее.
Первым делом Фомин отправился к королевичу и уже теперь, ничего не скрывая, объявил ему все и представил себя в его распоряжение. В случае же, если сватовство окажется удачным, Фомин предложил Вольдемару обучать его русскому языку, без знания которого жить в московском государстве ему будет не только трудно, но и совсем невозможно.
– Русские люди, начиная с самого царя, никаких языков не знают…
При этом Фомин предупредил королевича, что язык московитов весьма труден и что он обучился ему только через десять лет.
На это Вольдемар сказал, смеясь, что ко всяким языкам у него, слава Богу, большие способности, обучается он им легко и быстро. Как ни труден язык московитов, но и его он надеется одолеть, только пока о занятиях его этим языком нечего и думать, – понапрасну он учиться не станет и вообще не поедет в Москву, пока не узнает доподлинно, на ком его женить хотят.
– Ведь вот ты, почтенный Томас, как приезжал сюда гонцом, с меня даже тайно писать портрет подговаривал живописца, – весело продолжал Вольдемар,
– значит, там у вас, в Москве, непременно хотели знать, каков я собою, оба ли у меня глаза целы и все ли на своем месте. Так посуди сам, могу ли я не интересоваться, кого мне в жены прочат? Был я в Москве, не знаю – видела ли меня в какую-нибудь щелку ваша царевна, только ведь я-то ее не видал. Покажи мне ее портрет, расскажи, по совести, какова она, тогда и за уроки московитского языка я готов, пожалуй, с тобою приняться, конечно, коли царевна мне понравится.
Иван Фомин, иностранец, веселого вида толстяк с бледными глазами навыкате, состроил весьма забавное лицо и развел руками.
– Ваша милость задаете мне неисполнимую задачу, – произнес он, – не только не могу я вам показать портрета царевны, но не могу и сказать, какова она, по той простой причине, что сам никогда ее не видал.
– Очень жаль, – перебил его Вольдемар, – ты легко мог бы догадаться, что я тебя стану о ней спрашивать.
– Догадаться было нетрудно, ваша милость, да ничего из моей догадки не могло выйти – царевны не видал никто, кроме ее семьи, ближайших родственников и служителей.
– Что ты мне сказки рассказываешь. Быть того не может!
– Однако ведь вы сами, ваша милость, прожили в Москве не день и не неделю, скажите: разве видели вы хоть одну девицу благородную?
– Нет, не видал.
– Так если дочерей московских сановников нельзя видеть – царевен тем более.
– Вот так страна! Вот так обычаи! – изумился и возмутился Вольдемар.
В это время ему доложили о приезде послов.
Он принял их весьма радушно и, поговорив с ними кое о чем при посредстве Фомина, услышав и от них про действительную цель их посольства, обратился к ним с тем же требованием показать ему портрет царевны.
Он все же рассчитывал, что с Проестевым прислан ему портрет царевны, и желание его видеть волновало его все больше и больше. Но никакого портрета с послами не было прислано, и, согласно данному в Москве наказу, в котором был предвиден и этот случай, Проестев отвечал:
– У наших великих государей российских того не бывает, чтобы персоны их государских дочерей, для остерегания их государского здоровья, в чужие государства возить, да и в московском государстве очей государыни царевны, кроме самых ближних бояр, другие бояре и всяких чинов люди не видают.
– При чем же тут здоровье? – удивленно спросил Вольдемар Фомина, когда тот перевел ему слова эти.
– А здоровье при том, – отвечал переводчик, – что московиты питают глубокую веру в возможность колдовства и порчи. Они полагают, что злой человек, получив чей-нибудь портрет и произведя над ним какие-нибудь магические действия, может этим погубить человека.
– Вот как! – сказал Вольдемар, удерживаясь от смеха. – Впрочем, такие верования свойственны не одним московитам – и у нас, в Дании, наверное, найдется несколько старух, которые верят такому вздору…
Вольдемар в этот день собирался ехать в тот уединенный замок, где жила его мать, с тем чтобы пробыть с нею некоторое время. Он не стал откладывать своей поездки и уехал.
Уехал он в странном настроении. Дело, о котором он когда-то мечтал, которое потом признал несостоявшимся, так что даже забыл о нем и думать, теперь всецело наполняло его. Он чувствовал какое-то особенное волнение и никак не мог успокоиться. То обстоятельство, что ему невозможно увидеть даже и портрета невесты, было главной причиной его волнения. Он почему-то вдруг решил, что она прелестна, как ангел.
Еще недавно он боялся, что его женят на уроде, теперь же, если даже послы или Фомин объявили ему. что царевна некрасива, он бы им не поверил. Его юность и горячее воображение уже создали ему образ этой таинственной невидимки, и этот образ с каждым часом становился для него все реальнее.
Через несколько дней он уже был совершенно влюблен в этот созданный им образ, только о нем и думал.
Между тем из Копенгагена в уединенный замок графини не приходило известий. Вольдемар собрался и поехал в Копенгаген. Его ожидала весть о том, что дело расстроено. Он пришел в отчаяние: «Как? Почему?»
Дело было так.
Канцлер, по поручению короля, спросил послов, в каком положении у царя будет королевич Вольдемар? Какова будет ему честь? Какие именно города и села даст ему царь на содержание?
Послы на это ничего определенного не сказали за неимением наказа, но Проестев сделал неосторожность, прямо объявив, что королевич должен креститься в православную веру греческого закона.
На это последовал решительный отказ короля и послам дали понять, что они могут ехать, что ни о чем больше король с ними объясняться не будет.
Они получили отпуск, послали Вольдемару царский подарок, пять сороков соболей, и, грустные, собирались к отъезду, когда к ним явился граф Шлезвиг-Голштинский.
Он был задумчив и очень ласков. Через Фомина он объявил послам, что приехал благодарить их за царский подарок. Послы же, оказав королевичу все знаки почтения, с низкими поклонами просили его сесть, но он сказал:
– Когда вы, послы, сядете, так и я с вами сяду!
Послы на это с еще более низкими поклонами отвечали:
– Как ты государский сын, мы, по указу государя нашего, тебя почитаем. Тебе, по твоему достоянию, добро пожаловать сесть, и мы с тобою сядем.
Так говоря, оба посла поставили для королевича большое кресло, но он на него не сел, а взял сам первый попавшийся стул, на котором поместился. Он говорил:
– Король, мой отец, все рассказал мне о нашем деле. Мне очень грустно, что оно не может состояться, но в какой вере я родился, в такой хочу и умереть. Ничто не заставит меня переменить веру и креститься снова.
Послы думали было его уговорить, и уже дьяк Патрикеев принялся доказывать ему все преимущества православной веры, но королевич решительно сказал, поднимаясь с места и прощаясь:
– Много говорить я с вами не могу, мне это и не дозволено, да и не о чем теперь нам говорить. Во всем полагаюсь я на волю моего отца: как он решит, так и будет.
С этими словами королевич уехал.
Послы видели, что он недоволен и грустен, почти так же недоволен и грустен, как были они сами.
С тяжелым сердцем, в страхе ожидавшей их царской немилости, тронулись Проестев и Патрикеев в обратный путь из Копенгагена.
XIV
Страх послов был не напрасен. Когда они возвратились ни с чем, царь Михаил Федорович сильно разгневался – сам даже не захотел и говорить с ними, а в посольском приказе им были сказаны вины их многие.
Обвиняли их в том, что великое государское дело, для которого их посылали, они делали не по наказу.