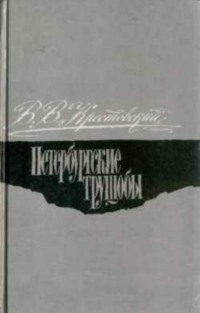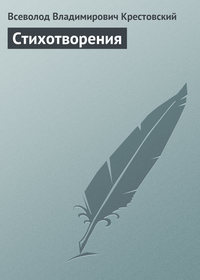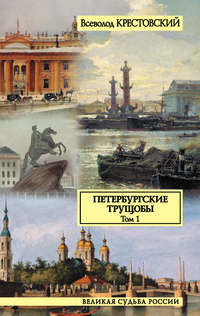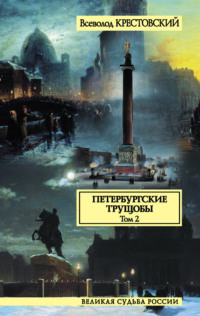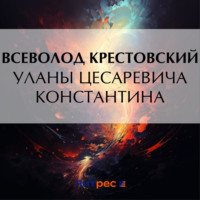Полная версия
Очерки кавалерийской жизни
Так вот для каких гешефтов гандловый люд посылает за околицы и на перекрестки своих агентов. Эти агенты разными: маневрами стараются один перед другим скрытно и незаметно пробраться на более отдаленные от месгечка пункты, дабы, заняв там выгодную позицию, перенять подъезжающего хлопа ранее своих конкурентов, и из этого выходят у них тоже бои немалые.
Но что за цель и что за выгода у гандлового люда отбивать товар с бою на перекрестках, вместо того чтобы спокойно покупать его на базаре? Эту цель и эту выгоду я поясню сейчас же.
Коль скоро в каком-либо местечке расположен на зимних квартирах «эскадронный двор», то гандловый люд всячески старается не допустить эскадронного командира и фуражмейстера до непосредственных сделок с хлопом – продавцом овса. Евреи всегда набиваются на то, чтобы заподрядиться как-нибудь с эскадроном на оптовую поставку овса и сена; но для эскадрона, в свой черед, несравненно выгоднее бывают непосредственные сделки с самими продавцами, так как тут весь товар на виду со всеми его качествами, да и покупается он из первых рук гораздо дешевле. Если же командир, отвергнув посредство еврейской поставки, оплошает почему-либо в базарный день запастись вполне нужным ему на неделю количеством овса, то жидки скупят весь овес сполна и тогда уже сами наложат на него такие цены, с которыми не в состоянии будет потягаться самая высокая казенная «справка», а эскадронный и езди тогда по помещикам, хлопочи да выбивайся из сил, добываючи нужное количество фуража! Ввиду возможности такого «гешэфта» жидки и стараются изо всех сил не допустить хлопа до базарного места и захватить его на предупредительных пунктах, дабы через то явиться самим, по возможности, господами дела и устранить конкуренцию эскадрона, ибо эта конкуренция для них во всяком случае очень опасна: эскадрон всегда купит честно, не обижая хлопа, с обоюдною выгодой как для себя, так и для продавца, а очевидность выгоды влечет этого последнего к прямой сделке "с войсковыми* и, стало быть, выбивает его из-под гнетущего экономического влияния еврейской насильственной эксплуатации, самих же евреев лишает хорошего «гешэфта».
Таковой способ действий гандлового люда заставляет и нас в свой черед высылать партикулярным образом маленькие команды на передовые посты, за околицы и к перекресткам. Назначение этих команд – в два, три или четыре человека каждая – состоит в том, чтобы оберегать, по возможности, хлопа от жидовских насилий и посягательств, чтобы не дать жидкам насесть на крестьянский воз, а самим проводить его мирным порядком в местечко, до базарной площади. Главные внушения вахмистра направлены при этом на одно – всячески избегать драки с жидками, которые в свой черед стараются затеять побоище, дабы заручиться существенными доказательствами, вроде порванных лапсердаков и расквашенных физиономий, при помощи которых затеять с эскадроном бесконечные кляузы. Для подобных экспедиций люди выбираются надежные, смышленые, рассудительные, при известной внушительной наружности, и благодаря этому наше оберегание хлопов проходит всегда почти благополучно. Такой образ действий с нашей стороны проливает в еврейские сердца горечь и злобу против нас немалые и вселяет в них мысль о мщении разными каверзами, что иногда и удается им приводить в исполнение. Так-то вот и воюем с ними из-за хлопского «оброка».
* * *Базарная площадь все более и более покрывается хлопскими полукошиками. Этот полукошик есть не что иное, как плетенное из прутьев лозы подобие корзины – полукорзинка, если перевести буквально. С одной стороны плетенка загибается вверх настолько, что образует спинку, или задок, в который можно упереться спиною, по самую шею; другая, противоположная сторона, т. е. передок, загиба уже не имеет, а от спинки к передку идут, постепенно суживаясь, боковые лопасти плетенки, которые у передка смыкаются с плетеным нее днищем полукошика. Такой-то полукошик ставится летом на колеса, а зимою на полозья и служит нехитрым экипажем для хлопа на всем Чернорусьи. Каждый почти хлоп, едучи «до церквы або до косциолу», забирает с собою и свою бабу, которая, обмотав себе голову червоною хусткой и ухитрившись, в силу обычной моды, устроить из этой хустки какие-то рога, торчащие с боков над ушами, сидит себе на задку полукошика в овчинном кожушке или в сером «сукмянце» и улыбается всем своим круглым курносым лицом, потому очень уж довольна, что «чоловик узяу ее у люды». Сам «чоловик» сидит, скорчившись, на передку и правит маленькой рыжей лошадкой, а сзади непременно уже увязался и бежит по дороге, не отставая, их дворовый пес – какой-нибудь Рябко, Серко или Чернушка. Пока «чоловик с жонцей» будет стоять в церкви за обедней, Рябко взберется на сено в полукошик, сядет на хозяйское место и, ни за что не сходя с него, станет самым добросовестным образом сторожить хозяйское добро – так уж приучены сызмала все эти Рябки с Серками. Базар начинается только после обедни, и потому все те возы, которым удалось избежать еврейской атаки на передовых постах, скучиваются со всеми своими продуктами и изделиями на площади около высокого каменного обелиска с золоченым шпилем, который некогда был воздвигнут здесь Бог весть для какой надобности прежним владельцем местечка, графом Тышкевичем. Иные из мужиков остаются «доглядать» свое добро, буде Серко запропал куда, или: не найдется добрый сосед знакомый, на которого можно было бы покинуть воз; но замечательно, что баба никогда сторожить не останется: она всегда идет «до церквы», ибо и вырядилась-то она в «квятну хустку» и «пацюрки» [3]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Каранковая бочка вмещает 112 казенных гарнцев, а корцовая 156. Оброк – овес, збож – жито, рожь, вообще хлебное зерно
2
Пошел, поезжай!
3
Цветной ситцевый платок или кусок белого холста, служащий головным Убором, и стеклярусные бусы – «пацюрки» – составляют обыкновенный праздничный наряд чернорусянки